Нотный пример
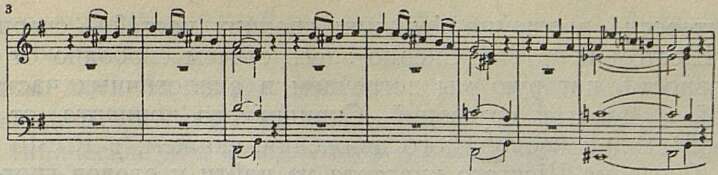
Четырежды повторяемая (с упорно оттеняемой ритмической форму - пример) фраза, которая вырастает из второй темы, завершает экспозицию. В самом конце этой, условно говоря, заключительной партии возвращаются (теперь у первой скрипки) начальные «постукивания», обретающие уже почти лейтмотивное значение.
Итак, экспозиция оказывается абсолютно монолитной: единая эмоциональная настройка и единство интонационной сферы, непосредственные мстивные и ритмические связи отдельных элементов, позволяющие говорить о монотематизме. Как увидим дальше, это существенная особенность всего Квартета, до конца остающегося в сфере лирических чувств и соответствующих им средств художественного выражения.
Разработка еще более сближает мотивные «зерна» основных тем части. Общий же колорит музыки здесь несколько меняется — она становится более тревожной. «Постукивания» превращаются в упорное, сумеречное ostinato (звучащее на протяжении 37 тактов). Сумрачнее становятся и мелодические очертания тем.
С точки зрения музыкальной логики, в подобных трансформациях нет ничего неожиданного. Потенциальные возможности такого развития заложены в экспозиции, в тех самых якобы «чужих» ми-бемоль и ля-бемоль соль мажора, в хроматических «сползаниях» мелодии (в разработке это уже хроматические тональные «соскальзывания»). Вполне оправдан сумеречный колорит разработки и с точки зрения эмоциональной логики.
В Шестом квартете вся разработка — минута серьезности, может быть, воспоминаний, нахлынувших внезапно; как будто легкое облако на миг затуманило солнечные лучи и сделало очертания ландшафта зыбкими, призрачными. Здесь нет грозных драматических, тем более трагедийных «вторжений». Их нет даже в кульминации, где у первой скрипки — на ff, в верхнем регистре и в октавном удвоении — является мотив начального ostinato. В трагедийных партитурах Шостаковича ostinato в таких случаях звучат, как удары судьбы, злого рока. Здесь это ostinato создает лишь ощущение лирической напряженности. Оно словно страстный внутренний зов: «Загляни в себя! Прислушайся к голосу сердца, своего душевного мира!» Эпиграфическая функция этого мотива явственно обнаруживается в кульминации.
А дальше — в репризе — происходит просветление. Звучность становится все более прозрачной. И уже после завершения своей маленькой лирической повести, на фоне кристаллически чистого соль-мажорного трезвучия, рождающегося из задержаний, композитор дает еще одну, только одну фразу виолончели, — последнее проникновенное слово «от автора»:
Нотный пример
Интересна эволюция функции средних частей — скерцо и пассакалии в Шестом квартете. Скерцо здесь совсем свободно от зловещей инфернальности, которую мы встречаем в аналогичных частях, например, Восьмой и Десятой симфоний, Скрипичного концерта, от тревожной и недоброй стихии неодолимого движения, скажем, в Presto Девятой симфонии. В скерцо Шестого квартета не найти и следов гротеска или сарказма. Оно идет в небыстром темпе Allegretto, и в его музыке есть трогательная человечность.
Эту часть условно можно было бы назвать «скерцо-ноктюрн». Она начинается мелодией первой скрипки, вызывающей в воображении слушателя образ тихих и осторожных шагов, словно человек боится нарушить прелесть лирического молчания. Такие же тихие и осторожные, «блуждающие» ходы альта и виолончели сопровождают эту тему:
Нотный пример
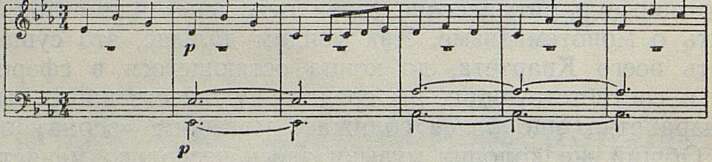

Здесь, как и в первой части, общий эмоциональный тонус остается чисто лирическим. Динамика варьируется лишь в пределах нюанса, а темп не выходит за рамки Allegretto. Скерцо оказывается не контрастом первой части, но ее естественным продолжением.
Второй эпизод скерцо еще более подчеркивает это. На фоне выдержанных, гармонически прозрачных аккордов у первой скрипки возникает чуть щемящая (но без какой-либо драматичности), почти призрачная, мерно спадающая и вновь вздымающаяся хроматическая мелодия. Происхождение ее из хроматических «сползаний» первой части очевидно. Прибавим к этому настойчиво проводимую ритмическую фигуру (пример) — дальнейшее развитие интонационно-ритмических связей:
Нотный пример

Хроматической мелодии отвечают хорального склада выразительные аккорды. В этом «скерцо-ноктюрне» вообще сочетаются два образа: волшебное очарование ночной тишины, лирический «пейзаж» и возникающие в глубинах души такие же лирические отклики.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Перед Вторым Всесоюзным съездом композиторов 5
- Славный путь 13
- Шестой квартет Д. Шостаковича 16
- О творчестве Г. Майбороды 24
- Песни Евгения Родыгина 31
- Большие успехи, серьезные задачи 36
- О нашем творчестве 49
- О насущных вопросах творчества и критики 51
- Исполнители просят слова 63
- Проблемы узбекской музыки 67
- Больше внимания пропаганде советской музыки 74
- О музыкально-теоретической концепции Б. Асафьева 79
- «Война и мир» в Киеве 89
- «Сойкино крыло» 94
- Я — дирижер 98
- Русский певец Николай Фигнер 103
- Георг Отс 107
- Конкурс имени Мусоргского 109
- На концертах эстонской Декады — Первая симфония А. Хачатуряна — Четвертая симфония и Виолончельный концерт С. Прокофьева — Зрелость артиста — Два дирижера — Кантаты Моцарта — Галина Вишневска 111
- Пленум композиторов Украины 129
- Челябинский оперный театр имени Глинки 132
- В Болгарии 136
- Поездка в Японию 140
- Египетский композитор о поездке в СССР 142
- Музыкальная жизнь Венгрии 143
- Советские артисты в Мексике 144
- В оперных театрах Лондона 145
- «Иван Сусанин» на болгарской сцене 146
- Письма из-за границы 147
- Краткие сообщения 148
- Монография о Комитасе 152
- Книга об Артуре Онеггере 157
- Музыкальный календарь 158
- Популярные монографии о советских композиторах 159
- Второй концерт Метнера 162
- Сборник песен 163
- Хроника 164



