здесь лишь одним простейшим примером из области прокофьевской гармонии:
Пример
Приведенная фраза, повторяющаяся с разными изменениями, является частью музыкального портрета юной Джульетты. Фраза эта звучит как полный каданс, в котором субдоминантовая и доминантовая функции представлены мажорными трезвучиями шестой пониженной и третьей ступеней. Образуется сопоставление трех мажорных трезвучий по большим терциям, дающее соответствующий колористический эффект.
То, что трезвучия шестой пониженной и третьей ступеней могут выполнять роль субдоминанты и доминанты, известно давно. Но трезвучия эти рассматривались как сравнительно слабое, нетипичное выражение названных функций и обычно не применялись (да еще подряд) в кадансах, замыкающих активное движение. Колористические возможности этих гармоний как бы противопоставлялись их функционально-динамическим возможностям.
Прокофьев дал новую, более динамичную трактовку подобных гармоний: обнаженное и заостренное применение типичной колористической последовательности (концентрация терцовой цепи трезвучий в пределах одного такта) дается в условиях, ярко выявляющих также и функционально-динамическое значение гармоний. Условия эти — четкий ритм каданса, кадансовый мелодический оборот до — си — до верхнего голоса, наконец, движение по ступеням гаммы и трезвучия в первом такте, прочно устанавливающее до мажор. Иначе говоря, новаторский прием основан на бесспорной объективной предпосылке — на способности ритмического и мелодического контекста подчеркивать разные свойства и возможности гармоний.
Художественные задачи, которым служат подобные новаторские приемы Прокофьева в области гармонии, очевидны: музыка большой динамичности, ясности отличается также необыкновенным богатством колорита. Какие традиции развивает в подобных случаях Прокофьев? В конечном счете, традиции Глинки, прозрачная музыка которого полна движения и колорита. Разве не имеет красочная терцовая секвенция, сопутствующая «гамме Черномора» в коде увертюры к «Руслану» (см. выше пример № 1), также и вполне определенного функционально-гармонического значения (тоника, субдоминанта, доминанта)? И не является ли в этом смысле каданс Прокофьева, сжимающий функционально ясную терцовую секвенцию до функционально ясной терцовой цепи аккордов, прямым продолжением глинкинского новаторства?
* * *
Одним из примечательных моментов первой части Седьмой симфонии Д. Шостаковича является начало коды: после скорбно-напряженного соло фагота — надгробного слова памяти павших героев — просветленно и мягко вступает лирический вариант главной партии:
Пример

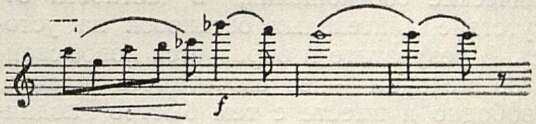
Мелодия скрипок, поддерживаемая затем флейтами, по-новому раскрывает прекрасный образ Родины.
После драматического напряжения «надгробной речи» мелодия коды отличается широтой, «освобожденностью» дыхания и охватывает огромный диапазон. Построенная в ясном до мажоре, мелодия эта обладает разнообразием оттен-
ков ладовой выразительности (лидийский, миксолидийский, дорийский), смена которых обогащает образ.
По-новому воспринимается традиционная лирическая кульминация на вводном тоне: звук си в мелодии, который ранее не затрагивался, звучит особенно свежо в сопоставлении с си бемолем предыдущего такта. Едва ли подобная кульминация звучала когда-либо (без октавной дублировки) в столь высоком регистре, где тихие мотивы заключений обычно «истаивают», замирают. А в конце мелодии — еще более выразительная кульминация на си бемоль! Особенно же замечательно в этой мелодии то, что восхождение обнимает на протяжении всего лишь четырех тактов почти три с половиной октавы, и притом оно не прямолинейно, а волнисто, лишено стремительности, не содержит особенно больших скачков, словом, не форсировано.
Как это достигнуто? Повидимому, Шостакович преобразовал здесь один традиционный прием, часто встречавшийся в классических кодах: это повторение в разных голосах короткого кадансового мелодического оборота, своего рода «прощальная перекличка». Нисходящие интонации к устоям на сильных долях второго, третьего, четвертого, шестого тактов рассматриваемой темы (соль — ми, ми — до, снова ми — до октавой выше и т. д. — см. нотный пример № 3) представляют собой именно такую «прощальную перекличку». Но кадансовые интонации в разных октавах слиты здесь с другими в единую эластичную линию 1. В создании слитности большую роль играют ритмические соотношения, в частности отсутствие длительных остановок на устоях. В результате и образуется новое свойство мелодии — ее способность плавно, свободно и вместе с тем быстро подниматься вверх, что в данном случае весьма существенно для всего характера образа. Здесь Шостакович следует традиции коды увертюры к «Руслану»: опираясь на типичнейшие, прочно сложившиеся средства код и преобразуя их, он раскрывает на этой основе новые свойства мелодии.
* * *
Представим себе, что в каком-либо произведении сначала звучит тема-мелодия без гармонизации (в октавно-унисонном изложении), а затем дается отдельно гармоническая основа темы в виде аккордовой последовательности. В конце же произведения тема и ее гармонизация соединяются.
Возникает вопрос, не является ли подобный прием формальным, надуманным, чисто умозрительным. Это зависит от того, насколько оправдан новый прием программным замыслом композитора и насколько обоснован он опорой на соответствующие музыкальные традиции и объективные закономерности.
Известно, что в историческом развитии музыки давно сложился тип контрастных тем, в которых первый элемент, более энергичный и «веский», дается в октавно-унисонном изложении, а второй, более сдержанный, мягкий или легкий (иногда танцовальный) , связан с гармонической фактурой. Конкретное образное содержание таких тем весьма различно. Примеры бесчисленны — от «Юпитера» Моцарта до «Богатырской» Бородина. Именно эту традицию использовал для воплощения своего оригинального программного замысла Римский-Корсаков в начале «Шехеразады»: в ответ на «угловатую» унисонную тему Шахриара звучит мягкая последовательность аккордов у деревянных духовых, представляющая собой как бы гармонизацию той же темы Шахриара2. Это редко осознается при слушании даже музыкантами. Однако слушатель легко воспринимает тематический контраст «энергичного» и «мягкого» элементов, ощущая их единство. Соответственно программе эти элементы могут быть истолкованы, как две стороны образа Шахриара (грозный властелин, смягчающийся под воздействием сказок Шехеразады). В конце произведения тема Шахриара, данная вместе с гармонией, действительно звучит много мягче, а после этого снова остается одна аккордовая последовательность у духовых.
Римский-Корсаков опирался здесь на общее свойство естественной гармонизации — смягчать острую тему, делать ее
_________
1 Во втором проведении главной партии экспозиции (цифра 1) эти же мотивы даны в более «разрозненном» виде.
2 Внимание автора данной статьи на этот факт обратил в свое время В. Цуккерман.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7
- Творчество молодых 11
- Опера для юношества 15
- Путь В. Щербачева 21
- О музыкальном образе 31
- Заметки о новаторстве 39
- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48
- Римский-Корсаков и модернизм 53
- Всесторонне изучать зарубежную классику 70
- Черты нового 74
- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78
- Пути развития китайской оперы 79
- Прошлое и настоящее английской музыки 87
- Румынский народный оркестр 92
- Советская музыка во Франции и Бельгии 95
- Газета Кировского театра 96
- По страницам газет 97
- Музыка в Карело-Финской ССР 100
- Праздник песни в Гродно 102
- Юбилей дирижера 102
- Рабочая хоровая капелла 102
- К итогам сезона 103
- Заметки о легкой музыке 106
- Эмиль Гилельс 108
- Борис Гмыря 109
- Выступление И. Козловского 110
- Надежда Казанцева 110
- Вера Фирсова 111
- Хроника концертной жизни 112
- Летопись жизни и творчества Глинки 114
- Чайковский в Праге 117
- Гоголь и музыка 118
- Польская книга о Монюшко 118
- Справочник о советских композиторах 120
- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121
- Второй квартет Е. Голубева 122
- Романсы советских композиторов 122
- О рецензиях на симфонические концерты 123
- Вопросы исполнительства 123
- Больше внимания советскому балету 124
- Наш помощник 124
- Журнал должен быть общедоступным 125
- О детской песне 126
- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126
- Музыкальная шкатулка 127
- Дружеские шаржи 130
- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132
- В Секретариате Союза композиторов 133
- В творческих комиссиях Союза композиторов 133
- Книга «О мелодии» 133
- Вечер памяти Брамса 134
- В музыкальной секции ВОКС 134
- «С художника спросится» 135
- «О воспитании молодых музыковедов» 135



