тические «загибы». Появились такие термины, как интонации «надрывные, унылые», интонации «намагничивающие», «размагничивающие», интонации «зовущие вперед» и «тянущие назад» и т. д. Не кажется ли вам, товарищи, что эта картина напоминает давно прошедшие времена РАПМа?
Возьмем, к примеру, песню М. Блантера «Летят перелетные птицы» на слова М. Исаковского. Сколько энергии было израсходовано некоторыми критиками, чтобы доказать, что эта песня не годится из-за «надрывной» интонации в заключительном музыкальном периоде! А песня-то преспокойно шествовала в это время по стране и стала любимой народом. Выходит так, что народ равнодушен к мнению некоторых критиков и ищет в песне основного, главного — искренней душевности, сердечного, живого отзвука своих чувств.
Можно было бы продолжить перечень примеров, приведя «Сормовскую лирическую» Мокроусова, мою песню «Моя Москва» и множество других, имеющих так называемые «надрывные» интонации. По моему мнению, все эти «интонационные кропания» являются опять-таки следствием оторванности .и кабинетного умничанья некоторых наших критиков и композиторов. Выискивая в пеоне «интонационные грехи», они совершенно не интересуются ее общим обликом и характером. Вся эта мелкая, придирчивая, опекунская критика сужает возможности композиторов.
Значит ли все это, что мы должны отвергнуть профессиональную критику, профессиональный анализ песни? Конечно, нет. Но нашу критику мы должны сочетать с широким пониманием целей и задач песни. Вне этого профессиональная критика схоластична и мертва.
Немудрено, что при отсутствии твердых критериев, при разнице в оценках той или иной песни мы сплошь и рядом встречаемся с такими фактами, когда одна и та же песня отвергается в одном месте и принимается в другом. Такие явления порождают неустойчивое отношение композиторов к своему произведению, не говоря уже о том, что теряется доверие композиторов к самой критике.
Здесь большое значение имела бы твердо и ясно выраженная точка зрения нашей композиторской организации. Между тем эта точка зрения зачастую выражается неопределенно, разноречиво. Поговорим, погорячимся и расходимся. Однако, стоит иногда прозвучать какому-нибудь отрицательному мнению о песне, мнению, далеко не доказанному, как песня «на всякий случай» снимается с репертуара... А ведь настоящего обсуждения, творчески принципиального спора об этой песне и не было! Правильно ли это? По-моему, неправильно.
Нужно широко обсуждать наше творчество. Нужно резко, сурово критиковать порочные, низкопробные, бессодержательные произведения, мешающие развитию нашего искусства. Но нельзя отказываться от песен только потому, что они спорные.
Партия учит нас строго, принципиально, но в то же время бережно, заботливо относиться к произведениям искусства, к творческой работе советских художников. Театру или писателю у нас всегда дается возможность исправить свои ошибки, улучшить пьесу или роман. Почему же некоторые наши критики отказывают в этом авторам песен? Ведь можно же исправлять, дорабатывать песню, учитывая критику, если она доказана в ходе живой творческой дискуссии.
Дружной совместной работой мы должны бороться за высокую идейность и мастерство, за разнообразие жанров советского песенного творчества. Только созданием ярких, художественно полноценных песен можно изгнать из быта слабые, посредственные песни, которых у нас еще много, но которых должно становиться все меньше и меньше.
Об этом всем я и хотел оказать, товарищи, считая, что мои замечания, основанные на нашей творческой практике, способны послужить темой для серьезных и творчески конкретных разговоров. Это необходимо для того, чтобы двинуть нашу песню дальше вперед, чтобы активизировать наше творчество и дать народу изобилие обязательно хороших и обязательно разных песен.
Песня в народе
Ю. МИЛЮТИН
У нас много говорят о принципах народности в советской песне. Всякий раз при прослушивании и обсуждении новых песен возникают горячие споры о национальной форме, о степени народности в произведении, и надо сказать, что наши критерии порой оказываются довольно шаткими, противоречивыми.
Зачастую право на народность признается лишь за теми песнями, которые основаны на оборотах старой русской крестьянской песни. Но ведь сам факт использования некоторых типических оборотов старинной народной песни еще не означает подлинной народности. Нам известны, например, стихи поэта А. Прокофьева, которые, несмотря на использование в них традиционных песенных и частушечных приемов, оказались по существу псевдонародными, и они подверглись справедливой критике за архаичность, нежизненность, оторванность от нашей современности. И наоборот, во многих стихах М. Исаковского мы ощущаем подлинное дыхание нашей современной действительности, подлинную народность, хотя автор не так уж часто пользуется оборотами традиционной крестьянской лирики.
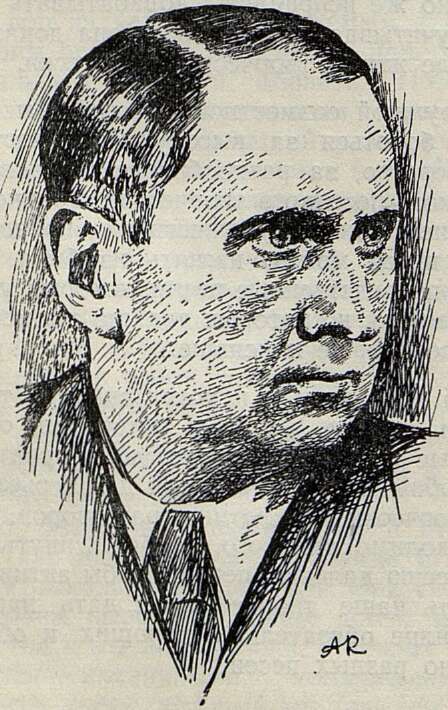
Рис. А. Костомолоцкого
Значит, успех произведения решается не его внешним стилизованным «нарядом», а народностью содержания, то есть глубиной и правдивостью отображения мыслей и чувств народа. Новизна и убедительность национальной формы стихотворения или музыкального напева должны при этом определяться новизной и актуальностью его содержания.
Мы знаем немало советских песен, в которых имеются интонации, близкие бытующей окраинно-частушечной лирике, однако эти песни никак не могут претендовать на подлинную народность в широком современном понимании этого слова. И наоборот, наши лучшие песни о мире, например «Гимн демократической молодежи» А. Новикова или песня «Не бывать войне-пожару» С. Туликова, вполне народны, так как глубоко отображают передовые идеи современности.
Можно ли считать, что музыкальная форма этих песен лишена национальных признаков? Нет, это русские песни наших дней, в них использован богатейший интонационный опыт русского песенного творчества; в них по-новому утверждается тот боевой, ораторски призывный стиль песен-плакатов, песен-лозунгов, который вошел в русский песенный обиход еще со времен революции 1905 года.
Песни о мире А. Новикова, С. Туликова, В. Белого — в такой же степени русские песни, в какой русскими являются «Мы кузнецы», «Красное знамя» и другие песни русского рабочего класса, ставшие образцами нового песенного стиля революционной России. Было бы неверно утверждать, что эти песни не народные, не русские, потому только, что в них нет мелодических оборотов старой крестьянской песни.
Скажем больше: многие произведения, пассивно перепевающие старинные образцы крестьянской песни, не волнуют слушателей. Мало ли у нас пишется так называемых «колхозных» песен, которые ограничены кругом одних и тех же мелодических оборотов, лишь по форме нацио-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- В борьбе за мир, за дружбу народов 3
- Музыка и народ 11
- Мир — это творчество, это жизнь! 12
- Строить, а не разрушать! 13
- Новые скрипичные концерты 15
- О творчестве Сулхана Цинцадзе 24
- Композиторская молодежь Московской консерватории 30
- К спорам об опере 36
- Как я понимаю народность в музыке 43
- Горький и Шаляпин (Очерк второй) 48
- За песней на Дальний Север 59
- Открытое письмо А. Г. Новикову и М. И. Блантеру 70
- Песня в народе 78
- О песенной лирике 81
- «Сорочинская ярмарка» в филиале Большого театра 84
- Симфонический концерт под управлением К. Иванова 87
- Фортепианные транскрипции Листа 87
- Концерт Владимира Софроницкого 88
- Выступления Татьяны Николаевой 89
- Советская фортепианная музыка 89
- Концерт Зары Долухановой 90
- Выступление Л. Ревякиной и С. Альбирта 90
- Хроника концертной жизни 91
- У композиторов Львова 93
- В стороне от запросов слушателей 95
- Творчество композиторов гор. Николаева 97
- Гродненские частушки. — Советская оперетта в периферийных театрах. — О композиторской молодежи Ленинграда. 98
- Хроника 102
- Русское скрипичное искусство 105
- Популярные брошюры о музыке 107
- Новые сборники марийских народных песен 109
- Арии и сцены из опер А. Серова 110
- Музыка свободного Китая 111
- Фестиваль польской музыки 120
- В городах Дании и Швеции 122
- Знаменательные даты 125



