театра с чувством кровной обиды не столько за Чайковского и за Мусоргского (они не нуждаются), сколько за самого себя.
Такое чувство, точно часами говорил с человеком, считающим своего собеседника (и всю публику) за круглого дурака и поэтому старающимся из всех сил вдолбить ему вещи, по его убеждению, недоступные. А все же, придя домой, как после “Евгения”, так и после “Бориса”, я сказал своим, чтобы они тоже шли. Как-никак это мучительство почтеннее и приятнее официального благополучия казенной оперы. Здесь и злишься, но и радуешься» 1.
«Я знаю, — продолжает Бенуа, — что расчленение, подчеркивание и раскрашивание в “Музыкальной драме” ставилось до сих пор на счет г. Бихтера, и нужно сознаться, что последний, действительно, доходил до геркулесовых столбов в подобных комментаторских “вандализмах”. Под его палочкой оркестр превращается в какого-то больного, томимого чудовищной лихорадкой и дикими кошмарами. Пульс внезапно переходит от полного замирания к бешеному скачу. Глубокие музыкальные мысли преподаются в виде каких-то недоуменных вопросов. <...> Такое его озадачивающее поведение за пюпитром объясняется не иначе как “гнетом идеи”, все тем же превратно понятым “реализмом”» 2.
14 декабря 1915 года театр «Музыкальной драмы» осуществил новую постановку «Каменного гостя» Даргомыжского в редакции и инструментовке Римского-Корсакова. С нетерпением ожидал ее Бенуа, высоко ценивший произведение Даргомыжского. Но его постигло разочарование. «Я глазам своим не верил, видя над дирижерским пюпитром характерную львиную голову г. Бихтера. Что это с ним? И откуда такая скромность? Он, душу нам измочаливший своими курсивами, кавычками, восклицательными знаками, задержками и ускорениями, всем своим пристрастием к подчеркиванию угаданных им намерений, — здесь (как раз здесь, где вся задача дирижера заключалась в “драматическом изложении” партитуры) оставил вдруг свой излюбленный прием и стал сдержанным, объективным и даже вялым. Что это такое и как это понять?» 3.
Трактовке «Каменного гостя» на сцене «Музыкальной драмы» Бенуа противопоставляет свою концепцию оперы Даргомыжского, отмеченную даром подлинного понимания исторической роли и музыкальной драматургии уникальнейшего создания русской оперной литературы. «Опера — мать реализма, русского оперного реализма» — так нарекает Бенуа «Каменного гостя». «Даже теперь, после всего того, что было сделано после Даргомыжского, после того, как его на все лады использовали пришедшие после него, учившиеся у его одра (иногда и более гениальные музыканты, нежели он), — “Каменный гость” поражает и своей свежестью, и своей правдой, и своей меткостью, наконец, прямо неисчерпаемым богатством музыкальных идей. Правда, все это, несмотря на участие Римского, звучит для избалованного уха несколько если не грубо, то элементарно. Правда, зачастую это только эскизы идей. Но зато какое обилие эскизов, какое разнообразие! Как хотя бы поучительно проследить все, чем позднейшие воспользовались. Например, лучшие, захватывающие сцены “Пиковой” — они в зачатках уже целиком здесь. <...>
А разве не заслуживает память Даргомыжского величайшего почета хотя бы за то, что он действительно более чем кто-либо приблизился к Пушнину, одолел его? Нигде в музыке “Каменного гостя” (или точнее, почти нигде) нет бестактных промахов, которые уродуют другие “пушкинские оперы”. Всегда “классическая” простота средств, при изумительной глубине концепции. Всюду нежнейшее внимание к тексту и яркое его освещение. Единственный общий упрек, который можно сделать этой “опере”, это некоторое однообразие в ее движении, отсутствие пауз, пренебрежение ферматами. Тут-то как раз “Музыкальная драма” и могла бы выступить с ее обычными “коррективами”, тут они были бы более чем уместны. И как раз здесь почему-то решено было следовать точно “букве” музыки, здесь ни разу эти привычные фантазеры не фантазировали и вся музыкальная затея исполнения отличается почти каким-то педантизмом, точно в публике рядом с пушкинианцами сидят не менее строгие приверженцы Даргомыжского, готовые протестовать против всякой вольности, против всякого свежего оттенения, против всякого подхода от себя».
Печальный опыт «Каменного гостя» и неудачи, постигшие эту оперу в «Музыкальной драме», убеждают Бенуа в том, что современное искусство оперы заходит в тупик. Призывая участников спектакля «отдаться стихии музыки», Бенуа склонен верить, что «и после этой неудачи можно и должно искать “оживления оперы”». Еще есть пути к достижению того идеала, который мерещился как Даргомыжскому, так и Мусоргскому, Римскому-Корсакову и Чайковскому («Онегина» и «Пиковой»). Но только это оживление произойдет не там, где станут вводить на сцену элементы реализма, годные для паноптикума, а произойдет это чудо там, где художники сцены
_________
1 Дневник художника. «Речь» от 7 октября 1913 года.
2 Музыкальная драма. «Речь» от 1 ноября 1915 года.
3 «Пушкинский спектакль» в «Музыкальной драме». «Речь» от 23 января 1916 года.
займутся задачей внутренней, подойдут к делу не мудрствуя лукаво, но тем более мудро, — пожелают раскопать правду внутреннюю, к которой внешняя правда приложится сама собой».
Еще более сильный, почти негодующий запал вызвала у Бенуа постановка оперы Даргомыжского на сцене Мариинского театра, осуществленная 27 января 1917 года Вс. Мейерхольдом. В его режиссерской деятельности Бенуа почти всегда усматривал насильственное отношение к театральному искусству, причисляя Мейерхольда к категории «профессиональных дерзателей». Всю деятельность Мейерхольда-режиссера Бенуа считал «рядом неудач, не только в смысле успеха, но и по существу». «И все-таки, — однажды заявил он, — несомненно, в этом человеке живет большой дух дерзости и громадная любовь к искусству» 1. Тем не менее Бенуа, со свойственной ему прямотой и решительностью, осудил мейерхольдовского «Каменного гостя» за недостойное «попрание Пушкина и Даргомыжского». Высокая степень уважения композитора к Пушкину исчезла в интерпретации оперы на императорской сцене. В результате «ровно ничего ценного по существу давно жданная постановка нам не дала, а лишь представила случай Мейерхольду позабавиться, публике поразвлечься, Головину и актерам послушать аплодисменты, машинистам и оркестру попотеть, а г. Малько исполнить свою задачу с прилежанием и старанием “первого ученика”» 2.
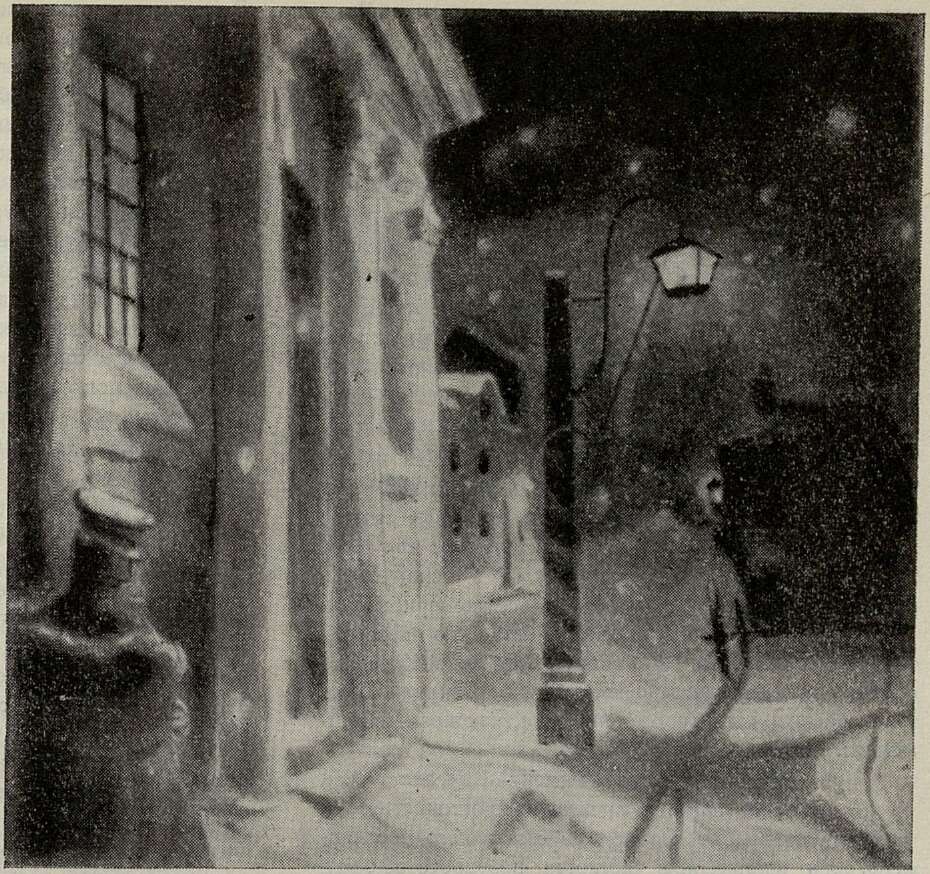
Герман у подъезда.
Иллюстрация Бенуа к «Пиковой даме» Пушкина. 1905 год
Данная характеристика Даргомыжского обогатилась новыми нюансами, еще более отчетливо выражающими восторженное отношение Бенуа к этой опере. «Не все в ней, — отмечает он, — одинаково хорошо, не все в ней найдено по отношению к Пушкину. Однако все же главное ее течение не только допускает настоящую работу над текстом, но даже помогает ей. Почти всюду и особенно во всем том, где обнаруживается темперамент, Даргомыжский сообщает новую яркость Пушкину. Как великолепна дуэль, как прекрасно понят трагический финал пира у Лауры <...>, каким змеиным лукавством, какой бесовщиной веет от всего признания Дон Жуана у мавзолея. Найдя эти главные куски, можно же от них и в музыке проследить нити, идущие во все стороны, установить каждое движение ее, каждую задержку, каждое ускорение, относительную силу каждой фразы, любой трепет эмоции, любую фермату; можно сделать сотни “находок”, которые бы и сделал напр. Шаляпин» 1.
Когда вчитываешься во все написанное Бенуа о музыке, в частности о русских композиторах, мо-
_________
1 Дневник художника. IX. «Московский еженедельник» № 48, 1907, стр. 32.
2 Постановка «Каменного гостя» на казенной сцене. «Речь» от 3 февраля 1917 года.
1 Там же.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Мы твои рядовые, Россия!» 5
- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6
- Поздравления из-за рубежа 21
- По следам великого поэта 58
- Бессмертие 63
- Александр Бенуа и музыка 65
- Счастливого пути! 82
- Творить новое 87
- Нарушение воли 93
- Говорят члены жюри 98
- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106
- Гости столицы: Спустя четыре года. 109
- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111
- Заслуживший добрую славу 114
- Принципы реалистического мастерства 118
- Ташкент: В часы испытаний 124
- Душанбе: Интересные перспективы 126
- Он победит! 129
- «Мы шьем одежду бойцам» 131
- Оперы Генделя на современной сцене 136
- На музыкальной орбите 141
- Новое о композиторе-демократе 146
- Из глубины веков 148
- Долгожданная публикация 151
- Хроника 153



