художник, но и как замечательный человек, близкий и дорогой нам мыслитель-гуманист.
В этом отношении богатый материал дают первые главы книги, насыщенные интересными фактами, изложенными живо, увлекательно. Отмечу, в частности, описание дома, в котором Шуберт провел детские годы. Описание это не могло бы быть таким рельефным, если бы оно было сделано только по документальным материалам, а не «с натуры» — Г. Гольдшмидт хорошо знает Вену и в процессе работы над книгой детально изучил шубертовские места, условия жизни и быта композитора. Он подробно и точно охарактеризовал казенный режим, существовавший в Венском конвикте в годы пребывания там Шуберта. Мы узнаем, например, что воспитанникам конвикта разрешалось выходить в город только группами и в сопровождении надзирателя, что особая форма, которую носили ученики, предназначалась для того, чтобы учитель мог легко заметить нарушителей этого правила... Интересны данные о «бунте», который был поднят воспитанниками конвикта (при участии Зенна) в связи с жестокими дисциплинарными взысканиями.
В книге приводятся и небольшие, но весьма характерные штрихи биографии Шуберта. Так, например, по свидетельству брата Фердинанда, в 1814 году, по выходе из ненавистного конвикта, Шуберт продал свои учебники, чтобы приобрести билет на постановку «Фиделио» Бетховена под управлением автора...
Г. Гольдшмидт подвергает резкой критике попытки ряда прежних биографов изобразить Шуберта как типичного представителя венского «Бидермайера», бездумно предававшегося «легким радостям жизни». Он разоблачает и характерное для многих буржуазных исследователей стремление преувеличить значение трагического как в жизни, так и в творчестве композитора. Г. Гольдшмидт показывает передовые гуманистические устремления Шуберта, любовь его к родине, ко всему истинно человеческому, страстную ненависть к реакционному меттерниховскому режиму. Он говорит о высоком патриотизме Шуберта, мечтавшего о лучшем будущем своего народа.
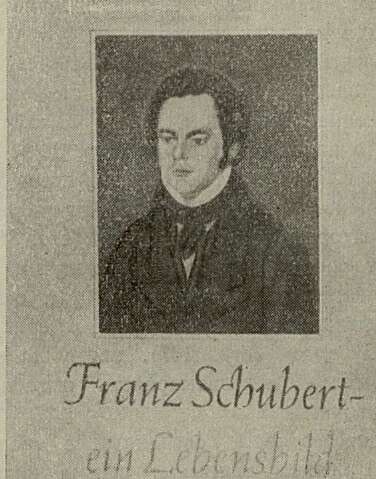
Лишь отдельные моменты в характеристике личности композитора вызывают возражения. Так, мне кажется, что автор чрезмерно подчеркивает в Шуберте «венское» — между тем, как известно, Шуберт не был коренным венцем. Трудно согласиться и с тем, что аллегорический рассказ «Мой сон» был написан Шубертом «по образцу сходных признаний из литературных излияний романтической школы» (стр. 218), что он, возможно, предназначался Шубертом для «вечеров чтения», устраивавшихся со вместно членами шубертовского кружка (стр. 220).
Записав этот рассказ, Шуберт, несомненно, уступил насущной потребности выразить словами наполнявшие его чувства; думается, что рассказ этот был для Шуберта интимным «самопризнанием» и не мог предназначаться для публичной огласки(то обстоятельство, что он известен лишь в копии Шобера, не меняет дела). Вызывают возражения и некоторые другие положения автора. Так, справедливо отмечая, что безудержное увлечение операми Россини мешало развитию национальной австрийской музыки, автор недостаточно выпукло очерчивает то ценное, что несло в себе творчество Россини (стр. 110).
Вряд ли можно согласиться с Г. Гольдшмидтом, когда он ставит в один ряд с Гете и Шиллером Новалиса и Шлегеля
(стр. 132). Недостаточно критично подходит он к Раймунду, драматургу и актеру Венского народного театра. Сочинения Раймунда по духу вовсе не так уж близки шубертовским, как представляется автору. Явным преувеличением отзывается определение Раймунда как «Шекспира Венского народного театра» (стр. 311). Автор преувеличивает также, утверждая, будто художник Швиндт стал «конгениальным иллюстратором песен Шуберта» (сгр. 166). Швиндт вовсе не был таким могучим художником, как Шуберт, и, цитируя отзыв Бауэрнфельда о Швиндте, как о «рисующем Шуберте» (стр. 167), автор должен был отметить неправомерность подобного определения.
Общие вопросы, связанные с творчеством Шуберта, занимают весьма видное место во «Введении». Это важная и ценная часть работы. Отрывки из «Введения» были опубликованы еще в одиннадцатом (шубертовском) номере журнала «Musik und Gesellschaft» за 1953 год и привлекли внимание исследователей.
Во «Введении» к книге автор показывает, что источником творческих сил композитора была народная музыка. Он отмечает, что в шубертовских мелодиях «обнаруживается австрийский национальный характер с его естественностью, непринужденностью,... теплотой и открытостью» (стр. 14); вместе с тем «очевидные следы» в творчестве Шуберта оставила венгерская и чешская народная музыка.
Верно подчеркиваются классические черты творчества Шуберта. Интересны страницы, посвященные проблеме шубертовского романтизма. Г. Гольдшмидт доказывает, что влияние реакционного литературного романтизма на Шуберта было неглубоким. В то же время он отмечает в музыке Шуберта большое значение романтических — в широком смысле этого слова — веяний, связанных с мечтой художника о лучшем, счастливом будущем.
Характеризуя шубертовский лиризм, автор дает представление о его жизненном многообразии, о его «всемогуществе». Он верно подмечает, что у Шуберта очень часто вслед за сочинениями, выражающими скорбные, даже трагические состояния, возникают произведения светлые, радостные, исполненные мужества, глубоко оптимистические по духу. Так, за проникнутыми ощущением безнадежности песнями «Зимнего пути» появляется Фортепианное трио си бемоль мажор, передающее радостное упоение жизнью. Такие контрасты заметны даже в пределах какого-либо одного сочинения (Квинтет до мажор, некоторые фортепианные сонаты).
Эти контрасты в творчестве Шуберта Г. Гольдшмидт связывает с отражением противоречивых сторон действительности; «неразрешенность» контрастов, по мнению исследователя, проистекала из того, что композитор не видел, не знал путей разрешения этих противоречий...
В отдельных случаях автор недостаточно акцентирует в искусстве Шуберта то непреходящее содержание, которое обусловливает полную жизненность его и для нашего времени. Порой в книге даются обобщения, которые нельзя признать вполне обоснованными. Так, по Г. Гольдшмидту, состояния скорби, отчаяния получают отражение преимущественно в песнях Шуберта, а для воплощения действенного начала, образов целеустремленной борьбы композитор якобы предпочитал инструментальные жанры (стр. 33–34) . Но ведь и среди шубертовских песен немало сочинений действенного, даже героического характера; с другой стороны, образы отчаяния и скорби в инструментальных сочинениях Шуберта нередко проникнуты страстным внутренним протестом. А утверждение автора, будто «настоящие творцы веселы, даже когда воплощают в своем сочинении трагическое содержание» (стр. 293), совсем неубедительно.
Не вполне верной представляется и оценка отдельных сочинений Шуберта. Например, причисляя увертюры композитора в «итальянском стиле» «к остроумнейшим и элегантнейшим творениям Шуберта» (стр. 111), автор не оговаривает при этом, что эти сочинения занимают в творческом наследии композитора очень скромное место. И наоборот, песню «Голубиная почта» Г. Гольдшмидт несправедливо называет «совершенно незначительной» (стр. 36 и 342); между тем это сочинение, близкое народной песенности, отличается свежестью и содержательностью, хотя и не претендует на большую глубину.
Из того факта, что к песне «Несчастный» (на стихи К. Пихлер) Шуберт набросал предварительный эскиз и, в конце
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Николай Яковлевич Мясковский 5
- Искусство талантливого народа 13
- О творческой индивидуальности композитора 24
- Композитор и оперный театр 44
- Бетховен — Девятая симфония 51
- Русская кантата Дж. Россини «Аврора» 66
- Первый русский музыкант в Индии 79
- Чешский музыкант в Грузии 82
- Пражский национальный театр в Москве 86
- «Фра-Диаволо» в филиале Большого театра 97
- «Рука об руку» 101
- «Мадмуазель Нитуш» в Московском театре оперетты 108
- Из концертных залов 112
- Тревожные сигналы 129
- Встречи с финскими друзьями 133
- Международный конкурс скрипачей 136
- Музыка и музыканты Франции 141
- Песня — сила в борьбе за мир 145
- В Миланском театре «Ла Скала» 147
- Джордже Энеску 148
- По страницам журнала «Музыка Ирана» 150
- Письмо из Лондона 152
- Новая книга о Шуберте 156
- Собрание русских песен В. Трутовского 159
- Новое об А. Рубинштейне 161
- Неряшливое издание 162
- Сатирикон 165
- Хроника 167



