Искусство Кодаи и Бартока имеет для нас особую ценность и потому, что народный реализм проявился в их музыке в ту эпоху, когда большинство композиторов буржуазного мира отвернулось от народа. В то время, когда сторонники модернистских направлений открыто утверждали, что музыка «не имеет содержания», что массы оказывают «отрицательное влияние» на искусство, Кодаи сформулировал свою реалистическую эстетику следующими словами: «Подлинное искусство возникает лишь тогда, когда миллионы чувствуют и мыслят одинаково»; «...наука и искусство имеют общие корни. Они отражают мир, но по-своему. Основное условие заключается в пытливой наблюдательности, в правдивом воспроизведении жизни. Как художественное, так и научное произведение имеют общую основу: реального человека».
И Барток, и Кодаи выражали средствами народного реализма проблематику своей эпохи, хотя сами они были еще изолированы во многом от народной аудитории. Строй народной жизни, который образно воплощали в своих произведениях Кодаи и Барток, в наши дни подвергся историческим преобразованиям. Но и ныне их искусство является высоким примером многостороннего и правдивого изображения народных характеров, жизни народа.
В конце тридцатых годов творчество нового поколения венгерских композиторов претерпело значительные изменения по сравнению с искусством Бартока и Кодаи. В произведениях этих композиторов мы не находим признаков глубокой идейности, не чувствуем реалистической атмосферы народных жанров. Они воспринимали великие традиции Кодаи и Бартока узко, односторонне — только в отношении музыкально-технологических приемов, ритмических, гармонических и полифонических новшеств; они забывали о главном — о прогрессивности общественных идей в творчестве замечательных классиков венгерской музыки.
Ввиду полного отрыва от жизненной действительности, от народа это поколение композиторов легко поддавалось влияниям модернизма. Многие венгерские композиторы ошибочно считали, что «языковые достижения» Бартока и Кодаи совместимы с формалистическими экспериментами «неоклассического», «необарочного», экспрессионистского и прочих упадочных буржуазных направлений.
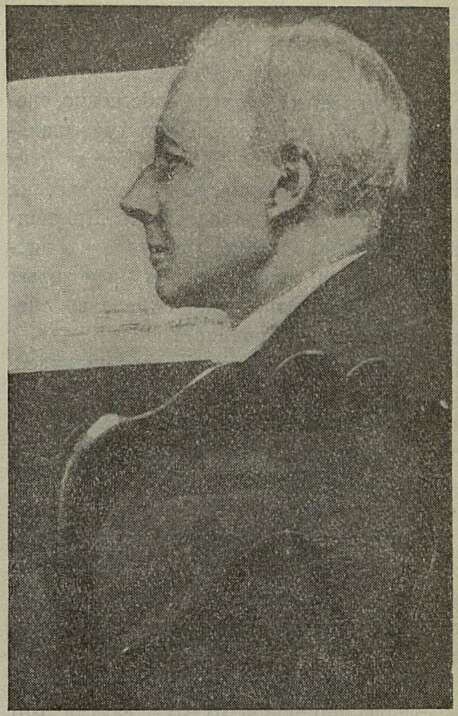
Бела Барток
В первые годы после освобождения Венгрии от фашизма искусство этих композиторов, еще скованное ложными традициями, шло прежним путем; хотя они приступили к работе в новых условиях с искренним энтузиазмом, влияния недавнего прошлого продолжали сказываться. Новые запросы общества получали отклик лишь в массовых песнях.
Первые значительные сдвиги в развитии венгерской музыки были отмечены в 1948 году. «Год перелома» выдвинул новые требования и перед музыкой. Современная венгерская музыка должна была вновь занять достойное место в культурной жизни общества. Широкие народные массы, для которых в прошлом культура была недоступна, включились в музыкальную жизнь.
Важное значение для развития венгерской музыки имели постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года и проведенная в Советском Союзе дискуссия по вопросам музыкального искусства.
Большинство венгерских композиторов безоговорочно приняло принцип единения с народом. Но некоторые полагали, что, лишь поднявшись до их «высоты», народ сможет
понять их усложненное художественное творчество. При этом они имели в виду некое абстрактное «музыкальное воспитание» масс, не уясняя себе, что, собственно, следует выражать на усложненном музыкальном языке.
Композиторы-коммунисты в творческих дискуссиях пытались опровергнуть эти ошибочные взгляды. Однако успеху этих дискуссий мешала неясность в некоторых принципиальных вопросах, в первую очередь в проблеме народности.
Народность Бартока и Кодаи являлась, по сути дела, народностью, основывающейся на крестьянстве. Ее идейная основа, ее реалистическое значение определялись буржуазно-революционными стремлениями. Однако эта народность имела и другое, не менее важное значение, вовсе не ограничивавшееся крестьянством, хотя вследствие ряда общественных причин народная музыка сохранялась главным образом в бедняцких слоях.
Многие наши музыканты признавали лишь старую народную музыку, считая, что новое развитие народной музыки немыслимо. Они не раз заявляли, что венгерская народная музыка «уже полностью собрана», остается, мол, лишь провести систематизацию, составить «словарь». «Собирать можно лишь варианты», — говорили они. У этих музыкантов даже не возникала мысль, что интересно было бы исследовать современные «варианты» песен, возникающие в период величайших исторических преобразований. Эти музыканты были склонны даже заклеймить современное развитие народной песни, как «упадок».
Некоторые из наших музыкантов-коммунистов допустили тогда ошибку, рассматривая старые народные песни, как некую «музейную ценность». Им не удавалось четко определить новое общественное и эстетическое значение народной музыки. Поэтому кличка «народник» давалась тому или иному музыканту не только из-за его отвлеченного, консервативного взгляда на народную музыку, но иногда и за усиленное подчеркивание им значения народной музыки, в том числе и старых народных песен.
В 1949 году и в начале 1950 года появилось несколько новых ценных сочинений венгерской музыки. Прежде всего следует назвать «Серенаду» Эндре Серванского — произведение теплого лирического характера, вполне доступное массовому слушателю.
В те же годы значительное развитие получил жанр кантаты. Монументальность этого жанра, конкретность его поэтического содержания, выразительная сила человеческих голосов — все это облегчило первые попытки наших композиторов отобразить в музыке новое содержание. Стимул и хороший пример дали нам некоторые выдающиеся советские кантаты — А. Арутюняна, Д. Шостаковича и др.
Созданные тогда венгерские кантаты представляют собой лишь первые опыты на пути к овладению методом социалистического реализма. В этих сочинениях композиторы часто отказывались от прежних средств выражения и применяли новые внешние приемы. Порой, наоборот, старые приемы служили для выражения нового содержания. Все же эти произведения имели серьезное значение: индивидуалистическое «самокопание», надуманные модернистские приемы постепенно уступали место широко развернутым, распевным мелодиям, непосредственно обращенным к массам. В этот период были созданы удачные образцы венгерской кантаты — «Клятва Сталина» Пала Кадоша и «Гонведская кантата» Эндре Серванского.
В кантате П. Кадоша привлекают мужественно-героическая, драматическая декламация в сольных эпизодах, захватывающая картина, рисующая скорбь народа. Многие черты кантаты свидетельствуют о том, что тема глубоко пережита композитором. Конечно, в этом сочинении композитор не мог сразу решить все творческие проблемы. Наряду с широкими песенными мелодиями, в оркестровых эпизодах кантаты встречаются и характерные для предыдущих произведений Кадоша, надуманные мелодические построения.
Кантата Э. Серванского является, по сути дела, циклом обработок народных песен. Однако ее значение гораздо шире. Удачно подобранные автором народные песни рисуют характерные картины солдатской жизни. Композитор не просто «обрабатывает», а обогащает народную песню мыслями, чувствами, переживаниями современного человека.
Правда, в кантате Серванского остались нерешенными многие вопросы современного творчества, в частности проблема конфликтности музыкально-драматического развития.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Вперед и выше 5
- О творчестве Г. Галынина 11
- Новая опера К. Дзержинского 19
- Третья симфония Ш. Мшвелидзе 30
- «Сталинградские картины» 36
- Музыкознание в республиках Прибалтики 39
- Молодежь впереди (Заметки об азербайджанской музыке) 53
- Успех литовского композитора 60
- Народные хоры и народное творчество 65
- Из истории литовской песни 71
- Композитор как интерпретатор 84
- «Свадьба Фигаро» 87
- Из концертных залов 99
- О грамофонной пластинке 115
- Для тружеников полей 120
- Дом Чайковского в Клину 123
- Песни новоселов в приуральской степи 125
- У композиторов Таджикистана 127
- Творческие проблемы венгерской музыки 130
- Хор имени Пятницкого в Германии 137
- Английский журнал о советском музыкальном театре 139
- Письмо из Лондона 141
- Концерты Д. Ойстраха в Англии 142
- В несколько строк 143
- О первом выпуске ежегодника «Вопросы музыкознания» 147
- Глинкинский календарь 153
- Новые издания Баха и Генделя 155
- Баховский альбом 156
- Оперные путеводители 157
- Нотографические заметки 160
- Сатирикон 163
- Хроника 165



