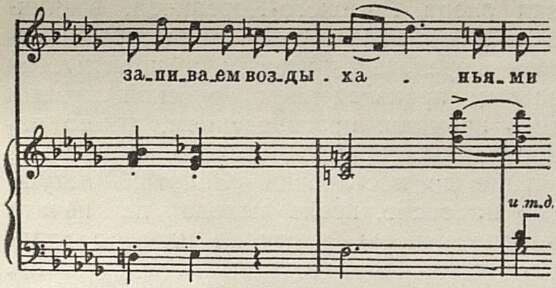
Одной из особенностей «Сказания» является отсутствие в опере больших «закругленных» арий и ансамблей. Это, в частности, и дало повод некоторым критикам говорить о «вагнерианстве» Римского-Корсакова в «Сказании». Однако и в этом отношении «Сказание» далеко от Вагнера.
Отношение самого Римского-Корсакова к Вагнеру хорошо известно по его статье «Вагнер и Даргомыжский» и по многим отдельным высказываниям. В полную меру оценивая выдающийся талант Вагнера и особенно его оркестровое мастерство, Римский-Корсаков в то же время резко критиковал общий стиль вагнеровской музыки и направление его творчества.
«Как музыкально-историческое явление он [Вагнер — Дм. К.] есть представитель той крайности, за которую переходить нельзя без ущерба для искусства», — читаем мы в статье «Вагнер и Даргомыжский»1. Анализируя основы музыкального стиля Вагнера, Римский-Корсаков писал о вагнеровской гармонии: «Почти исключительное применение изысканного стиля вызывает монотонию роскоши и возбужденности... В вагнеровском ритме наблюдается, напротив, монотония бедности». Принципы вагнеровской мелодики определены следующим образом: «Чаще всего мы встречаемся с короткими мелодическими фразами, связанными между собой в непрерывную ходообразную цепь бесконечной мелодии»2. Позднее Римский-Корсаков еще более заострил свои суждения о Вагнере.
Незадолго до завершения работы над «Сказанием» Римский-Корсаков писал в письме к Е. Петровскому3: «Полагаю, что "Китеж" будет не отсталая, а современная и даже достаточно передовая [опера], при некоторой доле свежести, и притом не растерявшая драгоценные музыкальные элементы: мелодию, форму, гармонию, контрапункт и... и... и следовательно красоту*» .
Действительно, «Сказание о граде Китеже» — одна из самых замечательных по красоте и мелодическому богатству народно-песенных тем опера Римского-Корсакова4. Кроме того — и это очень существенно, — при отсутствии больших «закругленных» номеров «Сказание» в значительной своей части состоит из внутренне законченных, логично развивающихся ариозно-мелодических построений — сольных, ансамблевых, хоровых. Римский-Корсаков словно хотел доказать, что отсутствие больших «закругленных» номеров в опере вовсе не обязательно должно привести к монотонии вагнеровской «бесконечной мелодии». Достаточно напомнить ариозо Февронии «Ах, ты, лес, мой лес...» и «Милый, как без радости прожить...» в первом действии и ариозо-причитание в четвертом действии; ариозо Княжича и дуэт с Февронией в первом действии; ариозо (почти арию — единственную в опере) князя Юрия в третьем действии; рассказ Поярка с хором в том же действии; прекрасные, народного склада песни стрельцов в первом действии, медведчика, гусляра с хором, нищей братии («С кем не велено стреваться...») во втором действии; свадебную песню во втором и четвертом действиях; песню татар в третьем действии; хор-молитву китежан в том же действии и т. д.
Все эти песенные построения давали полное основание наиболее проницательным критикам (например, Н. Кашкину)
_________
1 Н. Римский-Корсаков. Музыкальные статьи и заметки. СПБ, 1911, стр. 165.
2 Там же, стр. 148 и 150.
3 Письмо к Е. Петровскому от 28 апреля 1904 г. «Советская музыка», 1952, № 12, стр. 71.
* В после-вагнеровское время на западе не вредно бы вывесить объявление: «Утеряна красота в музыке; нашедшему и доставившему будет выдано вознаграждение по закону». — Примечание Римского-Корсакова.
* Сюжет «Сказания» с его народной символикой потребовал от Римского-Корсакова включения в интонационный строй оперы и элементов старинной народно-церковной музыки. Однако эти элементы церковной музыки претерпели в «Сказании» своеобразную эволюцию в сторону сближения их с русской крестьянской песенностью.
говорить о «Сказании», как о непрерывно развивающейся широкой песне, как об «опере-песне».
И еще одна очень существенная сторона «Сказания» должна быть отмечена: возвращение (обычно в развитом виде) к ранее прозвучавшей музыке. Такие возвращения-повторения, словно арки, перекинутые из одной картины в другую, придают опере глубокую целостность и органичность. О свадебной песне, начавшейся во втором действии и завершающейся в финале оперы, уже говорилось. Точно так же дуэт Февронии и Княжича, прозвучавший в первой картине, «допевается» в пятой. Песня-хор нищей братии (после песни гусляра) превращается в хор-молитву китежан в третьей картине. Тема «леса-пустыни прекрасной» от вступления и первой картины проходит через пятую картину в финал — в невидимый град Китеж. Темы великого Китежа и китежских колоколов развиваются на протяжении всей оперы — от первой картины до мощного звучания в финале оперы и т. д. К этому следует добавить и великолепные по образной яркости, законченности и силе симфонического развития оркестровые эпизоды оперы: «Похвалу пустыне», «Преображение леса» (своеобразная вокально-симфоническая картина), «Хождение в великий Китеж» и, особенно, центральный эпизод оперы — гениальную «Сечу при Керженце».
По художественной форме, соответствующей идее и сюжетно-драматическому развитию, «Сказание» является одной из вершин оперного мастерства Римского-Корсакова. Однако «Сказание» постигла та же участь, что и «Кащея». Много лет прошло, прежде чем по достоинству были оценены выдающиеся качества этих классических русских опер, прежде чем рассеялся модернистский туман, скрывавший их подлинную идейно-художественную сущность.
* * *
Итак, после «Кащея» декадентская критика пыталась навязывать Римскому-Корсакову импрессионизм, после «Сказания» — религиозную мистику.
Появление «Золотого петушка» усугубило «модернистскую легенду» о Римском-Корсакове. Это неудивительно, если принять во внимание, что последняя опера Римского-Корсакова, возникшая в мрачные годы реакции, была самым передовым, смелым и политически острым произведением русской музыки того времени, произведением, прямо направленным против русского царизма.
Еще до постановки «Золотого петушка» на сцене, после выхода из печати клавира оперы, выступил идеолог «раннего современничества» В. Каратыгин. Извращая истину, он утверждал, что «в либретто В. Бельского, как и в сказке Пушкина, нет никакого «смысла», никакой «идеи», лишь отдельные сатирические выпады, какие-то частные «намеки» на «мораль», какие-то зачатки, обрывки поэтических символов, тем более глубоких и обаятельных, чем более смутных, расплывчатых»1.
Здесь модернизм выступает уже с открытым забралом. «Золотой петушок» Пушкина и Римского-Корсакова объявляется произведением безидейным, бессодержательным! Этим беспрецедентно циничным утверждением Каратыгин намеревался стушевать, замазать истинный сатирический смысл новой оперы Римского-Корсакова и «приспособить» ее ко вкусам и требованиям безидейного модернистского искусства.
Характерно при этом, что Каратыгин стремился отодвинуть «Петушка» в глубь времен, лишить его каких-либо ассоциаций с политической современностью. Этого требовала и декадентская эстетика, отрицавшая в искусстве реально жизненное содержание, этого требовал и политический курс официальной прессы. Каратыгин утверждал, что в «Золотом петушке» «перед нами воскресает «plus-quamperfectum» [т. е. «давнопрошедшее»] российского «тридевятого государства», бесконечно милая, потому что бесконечно далекая мешанина добродушия и коварства, благородства и низости, мечтательности и самодурства, чувствительности и варварства». Говоря, что в либретто «Золотого петушка» много «марионеточно-руссифицированной "метерлинковщины"» и что композитор «сильно подчеркнул этот элемент», Каратыгин уже без всяких оговорок (как это делали некоторые другие критики), решительно заявлял, что, восста-
_________
1 «Библиотека театра и искусства», 1908, № 9, стр. 37–48.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7
- Творчество молодых 11
- Опера для юношества 15
- Путь В. Щербачева 21
- О музыкальном образе 31
- Заметки о новаторстве 39
- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48
- Римский-Корсаков и модернизм 53
- Всесторонне изучать зарубежную классику 70
- Черты нового 74
- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78
- Пути развития китайской оперы 79
- Прошлое и настоящее английской музыки 87
- Румынский народный оркестр 92
- Советская музыка во Франции и Бельгии 95
- Газета Кировского театра 96
- По страницам газет 97
- Музыка в Карело-Финской ССР 100
- Праздник песни в Гродно 102
- Юбилей дирижера 102
- Рабочая хоровая капелла 102
- К итогам сезона 103
- Заметки о легкой музыке 106
- Эмиль Гилельс 108
- Борис Гмыря 109
- Выступление И. Козловского 110
- Надежда Казанцева 110
- Вера Фирсова 111
- Хроника концертной жизни 112
- Летопись жизни и творчества Глинки 114
- Чайковский в Праге 117
- Гоголь и музыка 118
- Польская книга о Монюшко 118
- Справочник о советских композиторах 120
- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121
- Второй квартет Е. Голубева 122
- Романсы советских композиторов 122
- О рецензиях на симфонические концерты 123
- Вопросы исполнительства 123
- Больше внимания советскому балету 124
- Наш помощник 124
- Журнал должен быть общедоступным 125
- О детской песне 126
- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126
- Музыкальная шкатулка 127
- Дружеские шаржи 130
- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132
- В Секретариате Союза композиторов 133
- В творческих комиссиях Союза композиторов 133
- Книга «О мелодии» 133
- Вечер памяти Брамса 134
- В музыкальной секции ВОКС 134
- «С художника спросится» 135
- «О воспитании молодых музыковедов» 135



