С. В. Рахманинов
(К десятилетию со дня смерти композитора)
Академик Б. Асафьев
Рахманинов в свои ученические годы уже был замечен и ласково приветствуем П. И. Чайковским. Его первая опера «Алеко» (1892) также привлекла к себе общее внимание, и не только в Москве. С нею автор выступил вскоре и как дирижер в Киевском оперном театре. Быстро выдвинулся Рахманинов-пианист. Несомненно, личный и притом обаятельный композиторский почерк Рахманинова чувствуется уже в первых очень юношеских опытах. Теперь они нам известны и пленяют не потому только, что это опыты ставшего всемирно известным русского музыканта в его триединстве: композитор, пианист, дирижер. Правда, если вчитаться в первые критические отзывы о Рахманинове (скажем, в московском журнале «Артист» за сезоны 1893–1894 гг. и далее), то можно сделать интересные наблюдения: как будто несомненность рождения крупного русского таланта не оспаривается, но критика все же наставнически ворчит на юношу за проявляемую им смелость выступлений. Побаиваются: не вздумал бы зазнаваться. Советуют постепенность и осторожность, а то ведь можно оступиться: ведь в садах досужей музыкальной критики всегда росло много колючего терновника, и надо сказать, что по мере творческого интенсивного роста таланта Рахманинова эти колючки тоже росли, и он очень скоро почувствовал, как больно они ранят. Но все-таки первые признания вновь открытой звезды астрономами русской музыки были едва ли не единодушны.
Творчество Рахманинова, сразу ярко выдвинувшись, смело расцветало и, начав первый зрелый этап восхождения, а потом достигнув своей вершины и стойко на ней удержавшись, в общем охватило период времени чуть свыше пятидесяти лет. Оно разместилось в эпоху между годами кануна кончины Чайковского (и А. Г. Рубинштейна, т. е. 1893 и 1894) и годом пятидесятилетия со дня смерти Чайковского, т. е. 1943, когда и умолк Рахманинов, чуть-чуть не достигнув своего семидесятилетия. Он родился 20 марта (1 апреля) 1873 г., а скончался в ночь на 28 марта 1943 г.
В данном очерке мне захотелось восстановить творческий облик Рахманинова в полноте расцвета его таланта, приблизительно от начала ошеломляющего воздействия его Второго концерта до грустных встреч с ним в Петрограде, в дни перед отъездом на чужбину. Это не столько воспоминания младшего современника Рахманинова, сколько описание впечатлений и живых еще ощущений присутствия в былой петербургской музыкальной действительности рахманиновских произведений и им же исполняемой своей музыки. Для меня сознание этого присутствия всегда оставалось дорогим, душевно необходимым с того памятного утра, когда на репетиции одного из концертов Зилэти я впервые услышал игру Рахманинова, очарование которой с той поры никогда не исчезало. Не портрет его я воссоздаю, а пытаюсь выразить, чем волновала рахманиновская музыка
_________
Настоящая статья Б. Асафьева представляет собой сокращенное изложение его брошюры «С. В. Рахманинов», изданной в 1945 году Московской филармонией. — Ред.
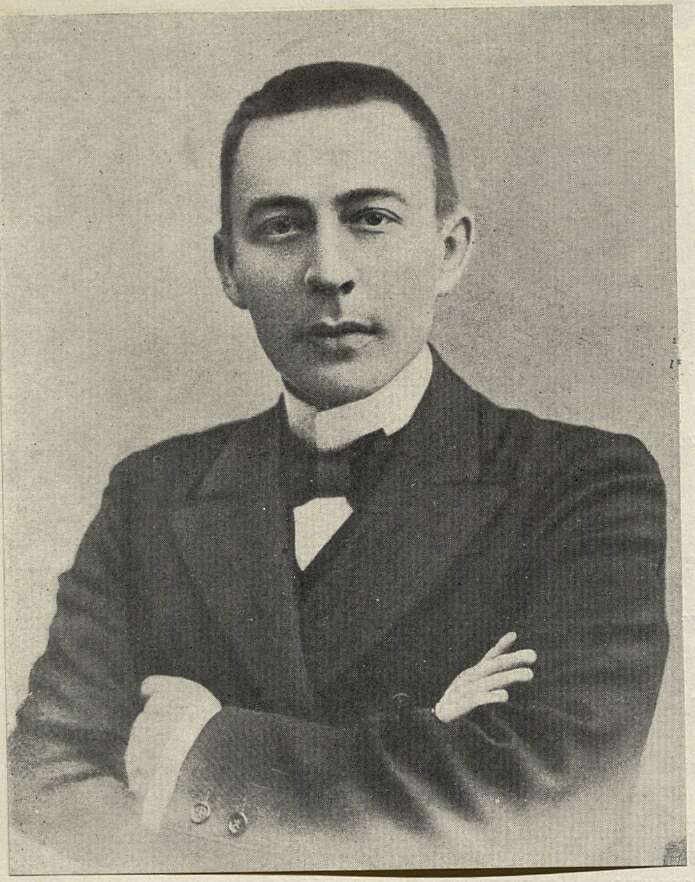
С. Рахманинов (1905 год)
в годы трудной борьбы за признание высоты помыслов композитора, упорно сводимого его недругами в ранг «салонных авторов».
Помню из суммы первых впечатлений от явления Рахманинова: рыцарственно-строгий и суровый облик на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством — без тени панибратства. Как сейчас, слышу поразивший меня ритм «менуэтного ре-минорного прелюда» и особенное рахманиновское интонирование именно сферы «d-moll’ности»: чудилось здесь и нечто бетховенское. Сразу же в пианизме Рахманинова волновали глубоко ощутимая им природа и — повторяю — интонационно-фортепианная сфера тональности, а также абсолютное отсутствие механически привычного звукоизвлечения. Рахманинов играл тетрадь своих прелюдов очень гордо, словно делая открытый вызов собравшимся петербургским музыкантам... и cловно говоря: «Знаю, что моя музыка вам не понравится, но я — пианист, и каждый извлекаемый мною тон — в моей власти и в нем я».
Запомнились тогда чуткие пальцы Рахманинова и манера глубоко вводить их в клавиши, как в нечто очень упругое, упорное. Впоследствии много, много раз я множил и накапливал свои впечатления. Хорошо слышу сейчас и Рахманинова в совместной игре его сюит для двух роялей, и Рахманинова — тончайшего аккомпаниатора собственных романсов (а однажды и дивного аккомпаниатора — толкователя романсов Чайковского, особенно «Ни слова, о друг мой», «Слезы», «На нивы желтые»), и Рахманинова в домашней обстановке с Зилоти, показывающего новую «бриллиантовую» редакцию скромного Первого фортепианного концерта, наконец, Рахманинова — дирижера «Пиковой дамы» и своей Второй симфонии и т. д. Но рельеф первого впечатления остался неизгладимым.
Не буду нанизывать звеньев воспоминаний. Позволю только включить сюда хронологически для дальнейшего важное, сохранившееся у меня одно из писем Рахманинова 1917 г. Желая проверить описок его произведений, я послал ему просьбу рядом с надписанными мною их названиями и опусами проставить собственноручные даты. Вот что я получил в ответ 1:
Многоуважаемый Борис Владимирович! Отвечаю на Ваши вопросы.
1) «Колокола» (клавир) Вам выслан.
2) Новые этюды из печати вышли.
3) Вариации 22-й opus играл в сокращенном и измененном виде. Предполагаю внести поправки в новую редакцию.
4) Теперь про Симфонию ор. 13. Что сказать про нее?! Сочинена она в 1895 г.
_________
1 Перечень произведений, приложенный к письму Рахманинова, опускается. — Ред.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Музыка и современность 3
- К новым успехам белорусской музыки 13
- Дела и дни оперной комиссии 17
- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22
- Об одном забытом жанре критики 28
- «Сердце Картли» 33
- Симфонические танцы 37
- «Кубанская станица» 42
- Литовский фортепианный концерт 47
- Лирика революционной мечты 50
- С. В. Рахманинов 55
- Письма Серова о Глинке 68
- Слово певца 77
- До глубины души 79
- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80
- Польский оперный театр в Москве 81
- Образ композитора на экране 87
- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95
- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97
- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98
- Концерты квартета имени Комитаса 99
- «Мазовше» 100
- Галина Черны-Стефаньска 101
- Ванда Вилькомирская 102
- Сонатный вечер 103
- Вечер чешской музыки 103
- Камерные ансамбли Брамса 104
- Выступление И. Масленниковой 105
- Хроника концертной жизни 106
- Памяти А. М. Пазовского 108
- По страницам газет 109
- Новосибирские заметки 111
- Искусство служит народу 113
- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115
- За подлинно народное, реалистическое искусство 117
- Высокая награда 118
- Миссия дружбы 119
- О чем поет народ Англии 120
- Арканджело Корелли 123



