победу революции. «Скоро нашу многострадальную Россию охватит всеобщее восстание. Трудовой народ свергнет царский ненавистный произвол... И я, свободный, гордый, вновь прилечу в Николаев», — писал он из Елисаветградской тюрьмы, полный радужных предчувствий надвигавшихся грозных событий. Невозможно без волнения читать рассказ о его последних минутах. «Боже мой, — говорил угасающий Гмырев, — да ведь я еще не жил... Ведь я только начал жить, только хотел жить...»
Песни и поэтическое творчество украшали тяжелую жизнь талантливого юноши-революционера, отгороженного от мира тюремной стеной. Как и вся жизнь Гмырева, его поэзия горела одним желанием — желанием свободы:
Гори, мое сердце, бестрепетно, смело,
Не прихотью чувств, не бесплодной тоской,
А жаждой великого общего дела
Борьбы за свободу Отчизны родной!
(«К сердцу»)
Революционная мечта о воле, призывы к борьбе звучат чуть ли не в каждой строчке его стихов, повествует ли поэт о трагической гибели боевых соратников (стихотворение «Казненным»), обращает ли свой гневный голос к палачам свободы («Они победили»), предается ли светлой думе о счастливом будущем (стихотворение «Грезы»), В его поэзии слышится гордое стремление «к солнцу», к свободе.
Эти черты творчества А. Гмырева показывают, что оно формировалось под непосредственным воздействием идей и образов «буревестника революции» Максима Горького. «Характерной особенностью его стихов, как и его писем, — пишет о Гмыреве один из его партийных товарищей, — является то, что заканчиваются они всегда бодро, о чем бы он ни писал». Эту особенность революционной поэзии Гмырева чутко запечатлела в своих романсах Маргарита Кусс.
Из шестнадцати стихотворений А. Гмырева, опубликованных в недавно вышедшем сборнике «Революционная поэзия 1890–1917 гг.», М. Кусс выбрала стихи автобиографического характера. В основу цикла положено пять стихотворений: «Мои песни», «Не жди меня...», «Из окна моей темницы» («Грезы»), «Я погибну, но вместе со мной не умрут...», «Гори, мое сердце».
Все это яркие образцы лирики, в которой выражены мысли и чувства целого поколения русских революционеров. Молодому композитору удалось воплотить эти стихи в произведениях романсового жанра, в которых талантливо применены средства декламации, приемы сопоставления и развития различных эмоций.
Таков, например, первый романс цикла — «Мои песни»:
Нет в моих песнях ни тени искусства,
Нет в них ни музыки, ни красоты;
В них я излил свои юные чувства,
В них я излил дорогие мечты.
Печальная дума, сосредоточенное и гневное повествование, чувство ненависти к «богатым и сытым» в дальнейшем уступают место революционному воодушевлению и прямому призыву к действию:
Пой, мое сердце! В оковах неволи
Негодованьем и местью звучи!
Во взволнованных стихах Гмырева слышатся отзвуки пламенной мечты горьковского «Буревестника»: «Близка уж, близка долгожданная воля!».
С первых же тактов романса «Мои песни» М. Кусс вводит слушателя в мир образов русской революционной песни; отсюда — благородная простота и суровая мужественность музыкальных тем. Не прибегая к цитатам, а используя лишь мелодические обороты старой револю ционной песни, М. Кусс сумела создать на их основе новые музыкальные образы, свойственные именно романсному жанру:
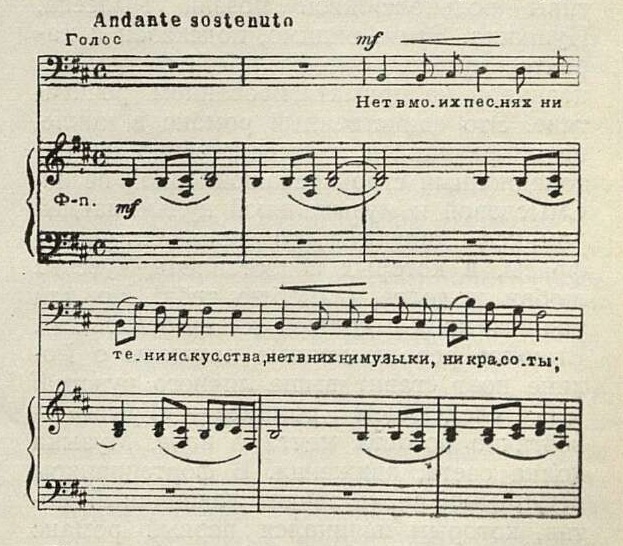
Хорошо запечатлен в музыке переход от сосредоточенной думы к революционному
порыву. Музыкальная кульминация романса — смена спокойного повествования призывной патетикой — совпадает с переломной строфой текста («Пой, мое сердце!»). Важную роль при этом играют резкие сдвиги в контрастирующие мажорные тональности (от сосредоточенно песенного си минора и следующей за ним гневной речитации в до-диез миноре к светлым тональностям ля и до мажора и далее к заключительному си мажору).
Вся музыка романса, непрерывно развивающаяся, убедительно воплощает главную поэтическую идею — революционную мечту о воле. Волнующе звучит конец романса, в котором вновь возникает начальный четырехзвучный мотив фортепианного вступления. Но как преобразилось теперь его звучание! Из мотива горечи, страдания он стал выражением революционной мечты.
Жанр лирико-драматического романса получил еще более отчетливое воплощение во втором произведении цикла — «Не жди меня...»:
Не жди меня... Без чувства сожаленья
Я от тебя свободно ухожу
И за любовь твою святые убежденья
К ногам твоим, как раб, не положу.
Поэтические образы этого стихотворения во многом близки лирике Лермонтова или поэтов-декабристов. Сопоставление любовных порывов героя и окружающей его враждебной среды («свистящие вокруг бичи») напоминает излюбленные мотивы вольнолюбивой поэзии Рылеева, Пушкина. Этим, видимо, подсказан и характер музыки романса, почти сплошь основанной на драматизированном речитативе. Это единственный романс в цикле, не опирающийся непосредственно на интонационный строй революционной песни. Смысловой и музыкальной кульминацией романса являются его заключительные фразы, в которых сопоставлены чувства любви и долга («Люблю тебя! Но для родного края я должен жизнь отдать!..»). Высокие революционные помыслы о Родине поэт ставит выше личного чувства.
В следующем романсе — «Грезы» — поэтично воспета мечта о воле. Музыка полна света, движения. В фортепианном вступлении вновь звучит лаконичный мотив, которым начинался первый романс цикла, но здесь он изложен в высоком, звонком регистре:
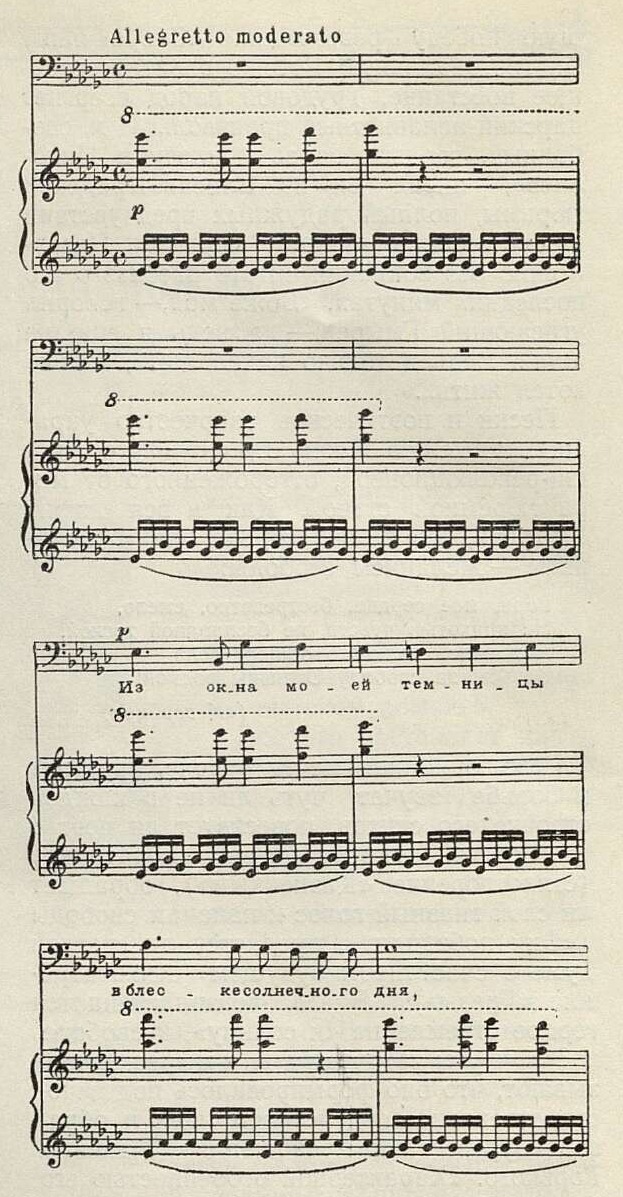
В музыке романса выдержан непрерывный, весьма подвижный фон, словно изображающий светлые сны поэта. Это ощущение дополняется прихотливой сменой тональностей, быстролетностью мелодических образов. Вплетаясь в общий поток движения, как бы подгоняя друг друга, в фортепианном сопровождении проносятся причудливые фразы; даже вокальный рисунок, не теряя своей напевной выразительности, приобретает черты ритмической убыстренности.
По содержанию это центральный романс цикла. Если первый романс был проникнут романтическим порывом к свету,
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Музыка и современность 3
- К новым успехам белорусской музыки 13
- Дела и дни оперной комиссии 17
- Насущные вопросы военно-оркестровой музыки 22
- Об одном забытом жанре критики 28
- «Сердце Картли» 33
- Симфонические танцы 37
- «Кубанская станица» 42
- Литовский фортепианный концерт 47
- Лирика революционной мечты 50
- С. В. Рахманинов 55
- Письма Серова о Глинке 68
- Слово певца 77
- До глубины души 79
- О симфоническом репертуаре для самодеятельных оркестров 80
- Польский оперный театр в Москве 81
- Образ композитора на экране 87
- Шестой пленум Правления Союза советских композиторов 95
- Симфонический концерт из произведений Скрябина 97
- «Мейстерзингеры» Р. Вагнера 98
- Концерты квартета имени Комитаса 99
- «Мазовше» 100
- Галина Черны-Стефаньска 101
- Ванда Вилькомирская 102
- Сонатный вечер 103
- Вечер чешской музыки 103
- Камерные ансамбли Брамса 104
- Выступление И. Масленниковой 105
- Хроника концертной жизни 106
- Памяти А. М. Пазовского 108
- По страницам газет 109
- Новосибирские заметки 111
- Искусство служит народу 113
- На Международном конкурсе скрипачей имени Венявского 115
- За подлинно народное, реалистическое искусство 117
- Высокая награда 118
- Миссия дружбы 119
- О чем поет народ Англии 120
- Арканджело Корелли 123



