
Марина Мнишек — М. Максакова
В тщательной отшлифовке хоровых и вокальных партий чувствуется работа мастера — дирижера спектакля Н. Голованова.
Субъективная оценка искусства русских дирижеров некоторыми пессимистами-критиками, которые видят свое главное призвание в том, чтобы всячески умалять значение русской дирижерской школы, решительно опровергается яркой и убедительной трактовкой Н. Головановым музыки «Бориса Годунова».
Трактовка эта столь же реалистична, как и сама музыка Мусоргского. Найден живой ритм спектакля, подчеркнута глубокая симфоничность оперы. Когда вслушиваешься, например, в музыку пролога оперы, кажется, что звучит русская реалистическая симфония, которую можно слушать и без слов, настолько ее музыкальные образы ясны и рельефны, а развитие их органично и цельно в своей влекущей вперед динамике. Своей жизненной трактовкой оперы Н. Голованов несомненно облегчает исполнительские задачи хора и солистов. Некоторое форсирование звучности оркестра, которое было в первых спектаклях, устраняется Головановым в последующих. Замечательный оркестр Большого театра, состоящий из подлинных артистов — мастеров музыки, играет под управлением Н. Голованова свободно, с вдохновением.
Чрезвычайно важна в современном оперном спектакле работа режиссера.
При выросших требованиях к актерской культуре оперного певца режиссеру уже невозможно ограничиваться элементарной сценической расстановкой, «разводить» певцов. Оперный режиссер должен осмыслить произведение и в основных его линиях и во всех деталях, строго исходя из музыки. Если в драме к произносимым словам существует подтекст, который актер может варьировать, то в опере для певца ведущим началом является музыка. Этого часто не понимают некоторые режиссеры, считающие себя последователями методов Станиславского и Немировича-Данченко; механически применяя методы режиссеров
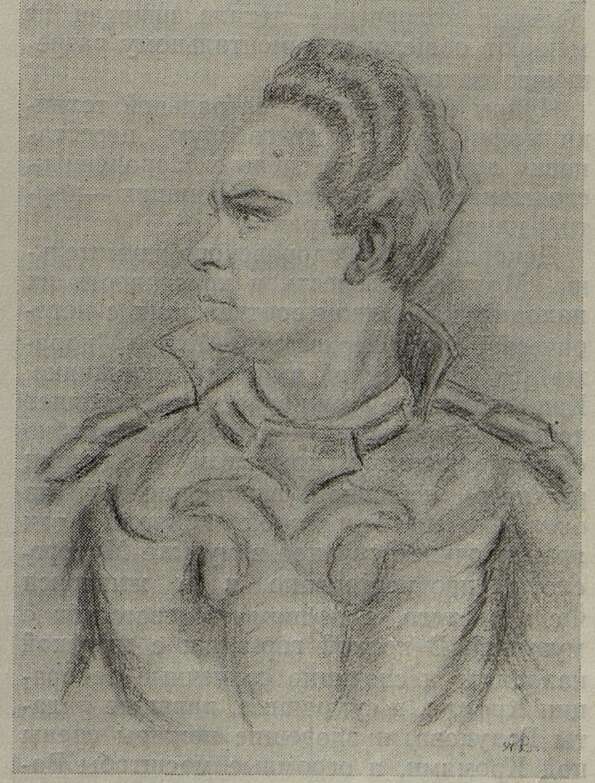
Самозванец — Г. Нэлепп
драмы в оперном спектакле, они идут прежде всего от слова, а не от музыки.
Этой ошибки не делает в своей постановке «Бориса» Л. Баратов — активный проводник в оперном искусстве творческих принципов Станиславского. Баратов сценически раскрывает партитуру композитора и, относясь бережно к слову, ни в чем не идет против музыки. Особенно велика заслуга Л. Баратова в раскрытии массовых сцен. Народ в новой постановке «Бориса»— центральное действующее лицо. Он безмолвствует только в сцене под Кромами во время выхода Самозванца. Славу Самозванцу поет не народ, а разный сброд, сопровождающий авантюриста. Народ настораживается и смотрит на Самозванца, как на нового своего врага. На фоне этого выразительного молчания народа особенно многозначительно звучат вещие слова Юродивого.
Необходимый корректив, сделанный театром в сцене под Кромами, еще более поднимает значение этой сцены, делая ее вершиной всего оперного спектакля. Сценические мизансцены сделаны Л. Баратовым изобретательно и одухотворенно, отдельные колоритные детали никогда не мешают общему монументальному разрешению задачи.
Чудом современной театральной техники можно назвать мгновенную перестановку декораций от сцены у Новодевичьего монастыря к сцене коронации — картин, идущих без антракта.
Декорации Ф. Федоровского изумительны. Монументальность и красочность их находятся в полном соответствии с исторической достоверностью. Можно поражаться бесконечной выдумке художника. Как, например, оживляет и углубляет действие декорация корчмы, с ее удобно обыгрывающимся крыльцом и далями русского пейзажа, виднеющимися из окон. Ощущение русской природы, так ярко прочувствованное в музыке Мусоргского, прочувствовано и в живописи Федоровского, в полном соответствии с музыкой. В полной гармонии с музыкой находятся и сияющие солнечные декорации Кремля, и сумрачные, давящие палаты Годунова, и зловещие пожары сцены под Кромами, и огромные масштабы Василия Блаженного — величественного памятника неизбывного горя народного.
Декорации и костюмы Федоровского, помимо их большой эмоциональной силы, имеют и несомненное познавательное значение. По ним можно изучать архитектуру и предметы бытового обихода старой Руси. Верная музыкальная и живописная «акустика» найдена и в декорациях польского акта, в котором необыкновенно интересно и сценически виртуозно Л. Лавровским поставлен полонез.
Спектакль «Борис Годунов» вышел на славу, но он мог бы быть еще сильнее, если бы его руководители более критически подошли к редакции Римского-Корсакова. Все равно цельность этой редакции нарушена вводом сцены у храма Василия Блаженного, данной в редакции Ипполитова-Иванова. Поэтому можно было бы добавить к редакции Римского-Корсакова еще ряд моментов из основного текста самого Мусоргского.
Необходимо было бы восстановить конец первой картины пролога («Вона, за делом собирали! А нам-то что? Велят завыть, завоем и в Кремле. Для-ча не завыть...»); такой конец картины более драматургически верен и служит экспозицией линии нарастающего народного бунта.
В сцене кельи должен звучать рассказ Пимена об убийстве в Угличе и о расправе народной с убийцами Дмитрия. Этот рассказ усилил бы впечатление обреченности Бориса и раскрыл бы образ Пимена, как обличителя царя-злодея.
В сцене Бориса с Шуйским (в тереме) основная редакция Мусоргского значительно ярче показывает столкновение двух лютых врагов и значительно углубляет роль Шуйского. Так же более значителен монолог Бориса в авторской редакции.
В сцене боярской думы, если бы был восстановлен «манифест» Бориса, значительно острее и драматургически вернее зазвучали бы слова бояр: «Что ж, пойдем на голоса, бояре?». Редакция Римского-Корсакова от этих поправок только выиграла бы, и спектакль стал бы более близким основному авторскому замыслу.
В целом же новая постановка «Бориса Годунова» в Большом театре говорит о неисчерпаемых богатствах советской музыкальной культуры и об истинном торжестве великой русской музыкальной классики.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Новые успехи советской музыки 5
- Молодые строители коммунизма (Впечатления делегата XI Съезда ВЛКСМ) 11
- Композитор и театр (Несколько слов о планах Большого театра) 14
- «Борис Годунов» в Большом театре 24
- К 81-й годовщине со дня рождения А. М. Горького 31
- Фельетоны 32
- Л. Н. Ревуцкий 40
- Новые произведения В. Бунина, Н. Будашкина и Л. Книппера 45
- Александр Арутюнян и его «Кантата о Родине» 50
- К вопросу о подготовке музыкальных кадров 57
- Всесоюзный смотр вокальных факультетов консерваторий 60
- Театральные воспоминания 64
- Музыка в цирке 73
- «Дон Карлос» на советской оперной сцене (К постановке в Молотовском оперном театре) 76
- Концертная жизнь 83
- Новые граммофонные пластинки 88
- Праздник песни в Сумах 89
- Творческий вечер А. В. Дорожкина 91
- По страницам печати 93
- Хроника 96
- В несколько строк 103
- Венгерские впечатления 105
- Польский народ чтит память Шопена 113
- Заметки о современном музыкальном творчестве в Германии 114
- Нотография и библиография 118



