перед судом истории, — он приводит несколько фактов и соображений о ходе событий в процессе создания «Руслана». «Я писал оперу по кусочкам и урывками»... «Я надеялся составить план по указанию Пушкина...» вспоминает он. — «В 1837 или 1838 году, зимою, я однажды играл с жаром некоторые отрывки из оперы „Руслан“. Н. Кукольник, всегда принимавший участие в моих произведениях, подстрекал меня более и более. Тогда был там между посетителями Константин Бахтурин (поэт и драматург. В. Я.); он взялся сделать план оперы и намахал его в четверть часа под пьяную руку, и вообразите: опера сделана по этому плану! Бахтурин вместо Пушкина! Как это случилось? — Сам не понимаю»1.
Но и во время самой работы над либретто Глинка все же оценивал по достоинству своих сотрудников (а их, считая Бахтурина и самого Глинку, который также участвовал в сочинении словесного текста, было шесть) и лучшему из них, В. Ф. Ширкову, писал «Понимаю очень, что содействие Кукольника тебе неприятно, но своенравие моей музы при твоем отдалении (Ширков был большей частью в отъезде, на юге. В. Я.) заставляет меня прибегать к нему... Впрочем, все делается согласно твоему разрешению. Кукольник подкидывает слова наскоро, не обращая внимания на красоту стиха, и все, что он доселе написал для Руслана, так неопрятно, что непременно требует переделки. Прибавлю еще, что как я ни ценю дарование Кукольника, но остаюсь при прежном о нем мнении: он литератор, а не поэт, стих его вообще слишком тяжел и не грациозен после Пушкина, Батюшкова и других. Нет сомнения, что метры несколько затрудняют тебя, а песни Баяна, ария Гориславы и другие места твоего либретто ручаются за талант твой»2.
Глинка не напрасно упомянул о «своенравии своей музы». В «Записках» он еще раз подчеркивает, что, передав часть работы упомянутому Ширкову (который «написал для пробы каватину Гориславы и часть первого акта», причем этот «опыт оказался очень удовлетворительным»), он «вместо того чтобы сообщить прежде всего целое и сделать план и ход пьесы..., принялся за каватины
_________
1 «Записки», изд. «Academia», М. — Л., 1930, стр. 223.
2 Письмо от 20 декабря 1841 г. (Полное собрание писем М. И. Глинки, собр. и изд. Н. Финдейзен, 1907, стр. 128).
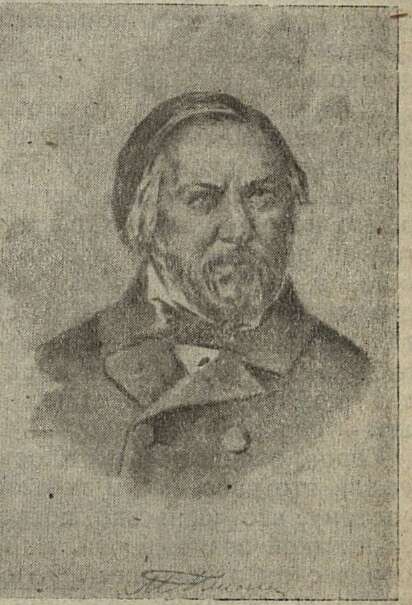
М. И. Глинка
Людмилы и Гориславы, вовсе не заботясь о драматическом движении и ходе пьесы, полагая, что все это можно было уладить впоследствии».
Все это — не что иное, как ответы Глинки его критикам по поводу коренных недостатков плана, являвшихся — по мнению многих его современников — главной причиной неуспеха, или, точнее, мало выявленного успеха оперы, в создание которой были вложены творческие силы лучшего композитора эпохи в высшем их развитии.
Через десять лет после смерти Глинки, в связи с успешной постановкой «Руслана и Людмилы» в Праге (1867 г.) и статьями В. Стасова и Ц. Кюи по этому поводу, выступил А. Н. Серов со своими знаменитыми очерками «Руслан» и русланисты«. Одним из центральных пунктов его суждений о сценических недостатках «Руслана» являлся для него вопрос об отходе композитора от общего направления и характера юношеской поэмы Пушкина. При этом он не только не настаивал на сохранении большинства стихов поэта, а, напротив, очень определенно высказывался за свободу использования текста в этом смысле: «Обворожительно-прелестный стих поэмы для оперы — не находка; в тех редких случаях, где поэт говорит не от себя, а от лица действующих, стих на сцене будет едва заметен, пропадет под музыкою. В оперном тексте слова дают — содержание; форма — дело самой музыки»1.
Серов отрицал возможность иного подхода к поэме в театре, нежели это дано самим поэтом, и не во имя приоритета автора ее, а потому, что «серьезно подходить к этой поэме и к ее сюжету нет никакой возможности. Напротив, оставаясь в пушкинском полуироническом отношении к героям поэмы и их подвигам, не гоняясь нимало за местными красками и за русскою народностью, но желая сохранить яркую причудливость картин и положений, эту поэму для театра можно бы превратить: или в балет, или в комико-фантастическую оперу в самом легком, шаловливом стиле... как напр. Оберов „Бронзовый конь“...»2
Многие возражения Серова в этих очерках имели несомненную ценность для общей теоретической проблемы оперного театра; но в данном случае он был не прав: Глинке нужен был широкий и серьезный замысел; вместо «волшебной» оперы — по рецепту Шаховского — он, с великими затруднениями в работе с либреттистами и при отдельных ошибках в целом и частностях (в области чисто-сценических требований), создал нечто иное — оперу своеобразного лирико-эпического жанра, с необычайным размахом музыкального творчества (чего не отрицал Серов) и с глубокими музыкально-драматическими характеристиками (что отрицал Серов, недооценивавший огромное значение «Руслана»).
Глинка, как и Вагнер, принес в театр наиболее сильные стороны своего творчества. Но Вагнер, там, где его замыслы не укладывались в тесные рамки сцены, обращался к литературным комментариям, обязательны для слушателя. В условиях русской оперной сцены и художественной культуры 40-х гг. это было немыслимо; комментарии пришлось развертывать критике, стоявшей на стороне композитора, — от Стасова и Лароша до наших дней.
_________
1 Собр. соч., т. IV, стр. 1688.
2 Там же, стр. 1691.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Шесть песен о Ленине и Сталине 7
- «Горцы любят Серго» 11
- Пушкин в романсовом творчестве советских композиторов 17
- Пушкин и русский оперный театр 21
- Пушкинские романсы С. Фейнберга 39
- Романсы В. Нечаева и В. Мурадели на тексты Пушкина 53
- Пушкин в музыке ленинградских композиторов 60
- Девятая симфония Бетховена 63
- «Кантата о весне и радости» М. Юдина 73
- Встречи с Ник. Островским 77
- Два года на новостройке (Опыт работы квартета им. Калийного комбината в Соликамске) 86
- Первый смотр 93
- На границе Синь-Цзяня 96
- К итогам Всекиргизской олимпиады 99
- Удмуртская песня 101
- Двадцать пять лет хора им. Пятницкого 102
- Николай Тигранян 103
- Памяти А. Д. Кастальского 103
- Марина Козолупова и Даня Шафран 105
- Концерты из произведений Шопена 106
- Концерты из произведений советских композиторов 108
- Работа Научно-исследовательского музыкального института при МГК в области разработки и конструирования электромузыкальных инструментов 111
- Музыкальная конференция в Ташкенте 112
- Музыкальная жизнь Владивостока 113
- Вести из Вологды 114
- Великий Устюг 115
- Над чем работают московские композиторы 116
- Л. М. Сигал — «Школа для скрипки» 117
- Обработки и переложения Гр. Пеккера для виолончели и фортепиано 118
- «Виолончельная техника» — М. И. Ямпольского 119
- О работе редактора 120



