Глинка в фантастической обстановке своей оперы стремился охарактеризовать жизненными й реальными чертами образы действующих лиц; это стремление музыканта, следовавшего (в музыкальной форме) лучшим образцам своего искусства, — в области общего художественного мировоззрения идет от Пушкина. Иных литературных воздействий мы у Глинки не найдем.
В итоге «поздний» Глинка, откликнувшись на «раннего» Пушкина, дал в «Руслане и Людмиле» музыкальную поэтизацию того светлого, юношеского, жизнеутверждающего оптимизма, которым была полна поэма.
Созданное на почве дворянской культуры, это зрелое произведение Глинки раскрыло необъятные возможности дальнейшего развития музыкальной культуры в России; вкусам придворной знати, вершившей судьбами театра, оно не ответило и ответить не могло, ибо оно было неизмеримо выше ее «эстетических требований». «Руслан» был создан в полном смысле слова для будущего русской музыкальной культуры.
Аналогичную с «Русланом» судьбу испытало произведение другого русского композитора, хронологически следовавшее за второй оперой Глинки и написанное также на творение великого поэта, — произведение меньшего творческого масштаба, но — тем не менее — огромного принципиального значения: «Русалка» Даргомыжского.
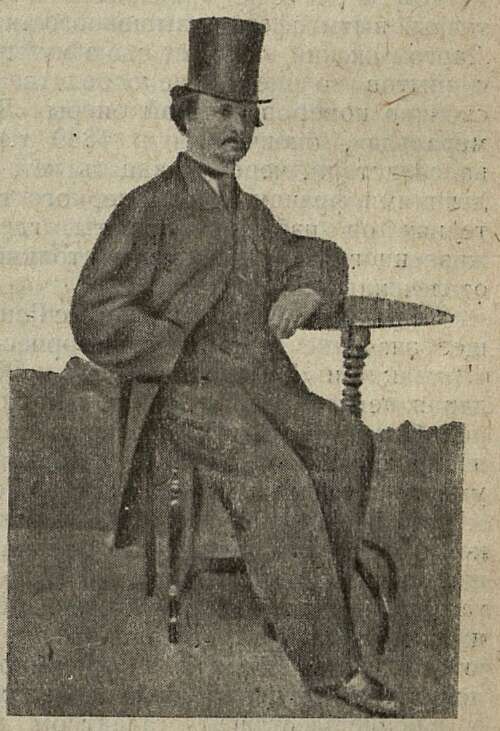
А. С. Даргомыжский (начало 60-х гг.)
2
Пушкинские тексты в музыкальном творчестве Даргомыжского занимают особо важное место. Им написано 15 романсов (почти четверть всех романсов и песен композитора) на слова Пушкина. Из четырех опер — три на пушкинские сюжеты, из них две — значительнейшие, вошедшие в классический репертуар русского оперного театра: «Русалка» и «Каменный гость», причем последняя из них — на полный, неизмененный текст гениальной драмы Пушкина.
Этот выбор останавливает на себе внимание, особенно — если учесть тот положительный художественно-принципиальный результат,
какой получился в итоге работы этого композитора над пушкинским словом. Для Даргомыжского в процессе его творческого развития словесный текст приобретает последовательно все большее значение. Отношение Даргомыжского к поэтическому тексту становится существенной предпосылкой, органически необходимым моментом в замысле произведения. Это происходит не сразу. Воспитанный в атмосфере повышенного интереса к французскому искусству, Даргомыжский начинает свою музыкально-театральную деятельность с опытов сочинений непосредственно на французские тексты (несколько номеров начатой оперы «Лукреция Борджиа» и затем «Эсмеральда», оконченная в 1839 г.). Сам композитор оговаривает впоследствии, через двадцать лет, связь этого произведения с тенденциями французского оперного театра. Но и в этих ранних тяготениях он избирает сюжеты, где есть возможность проявления жизненного драматизма, где столкновения страстей отнюдь не носят отвлеченный характер.
Сближение Даргомыжского с Глинкой (с 1833 года) имело решающее значение в процессе творческого развития будущего автора «Русалки» и «Каменного гостя». «Эсмеральда» писалась в годы создания первой оперы Глинки и непосредственно после нее. Другим, подобным же опытом еще не нашедшего себя композитора явилась и одноактная опера-балет (первоначально «кантата»), написанная уже на пушкинский текст, — «Торжество Вакха» (1843, 1848 гг.).
Это первое обращение в области театрального творчества к великому русскому поэту можно рассматривать как явление, не выходящее еще из полосы исканий молодого композитора. Но оно очень характерно для него самого, в период значительного влияния французской культуры, его воспитавшей. В этом произведении чувствуются — и по замыслу и по выполнению — отклики французского искусства предшествовавшей эпохи, с его античными сюжетами в внешне-блестящем, галантном музыкальном стиле. Опера эта (одноактная), поставленная много лет позднее в Москве (1867 г.), привлекла к себе внимание; но возможно, что Даргомыжский, в свое время занявшийся ее переделкой для театра после значительного успеха в Москве «Эсмеральды» (1847 г.), имел в виду поднять тот жанр, который процветал в московском Большом театре в виде «живых картин» с музыкой. Слишком статична вся концепция, идущая вразрез cо стремлениями композитора к драматическим элементам в спектакле. Любопытно, что даже и по поводу этой ранней вещи Даргомыжский отмечает, в период работы над ней, что он «ничего не изменил в этой поэме»1, т. е. в тексте пушкинского стихотворения.
Выбор «Русалки» был для Даргомыжского как нельзя более удачным. В своей переписке он не раз говорит о Пушкине («не могу шагу без него...»). Но, к сожалению, он не конкретизирует причины своего влечения к творчеству великого поэта. Вероятно, он следил за литературой о Пушкине и, конечно, знал статьи Белинского. Именно у Белинского, как известно, впервые промелькнуло сведение о том, что якобы драма «Русалка» предназначалась Пушкиным для оперы: «Говорят, — читаем в его статье 1846 г., — будто
_________
1 Письмо от 10 августа 1843 г. См. Даргомыжский», Автобиография — письма — воспоминания современников, под ред. Н. Финдейзена, изд. 2-е, П., 1922. стр. 13.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Шесть песен о Ленине и Сталине 7
- «Горцы любят Серго» 11
- Пушкин в романсовом творчестве советских композиторов 17
- Пушкин и русский оперный театр 21
- Пушкинские романсы С. Фейнберга 39
- Романсы В. Нечаева и В. Мурадели на тексты Пушкина 53
- Пушкин в музыке ленинградских композиторов 60
- Девятая симфония Бетховена 63
- «Кантата о весне и радости» М. Юдина 73
- Встречи с Ник. Островским 77
- Два года на новостройке (Опыт работы квартета им. Калийного комбината в Соликамске) 86
- Первый смотр 93
- На границе Синь-Цзяня 96
- К итогам Всекиргизской олимпиады 99
- Удмуртская песня 101
- Двадцать пять лет хора им. Пятницкого 102
- Николай Тигранян 103
- Памяти А. Д. Кастальского 103
- Марина Козолупова и Даня Шафран 105
- Концерты из произведений Шопена 106
- Концерты из произведений советских композиторов 108
- Работа Научно-исследовательского музыкального института при МГК в области разработки и конструирования электромузыкальных инструментов 111
- Музыкальная конференция в Ташкенте 112
- Музыкальная жизнь Владивостока 113
- Вести из Вологды 114
- Великий Устюг 115
- Над чем работают московские композиторы 116
- Л. М. Сигал — «Школа для скрипки» 117
- Обработки и переложения Гр. Пеккера для виолончели и фортепиано 118
- «Виолончельная техника» — М. И. Ямпольского 119
- О работе редактора 120



