МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
На оперных спектаклях фестиваля
Д. РАБИНОВИЧ
Приятно встретиться с оперой новой, внушающей симпатии к таланту автора, и сверх всего — на современную советскую тему. Мы имеем в виду оперу молодого композитора Григория Шантыря «Город юности», поставленную также совсем молодым Челябинским театром оперы и балета. В дни Всесоюзного фестиваля эта опера была показана в Москве, на сцене Филиала Большого театра.
Мы подчеркнули молодость композитора и театра не для того, чтобы выговорить им право на скидки «по возрасту». Напротив, именно эта молодость, а иногда и творческая незрелость обусловили, наряду с юным энтузиазмом, ряд досадных просчетов, о которых умалчивать не стоит.
И все-таки, важнее сказать, что юный энтузиазм и внесенные им положительные качества перевешивают в «Городе юности». Когда в прологе открывается занавес и мы видим мчащийся грузовик (театрально это сделано интересно и изобретательно), наполненный жизнерадостной комсомолией, когда звучит такая же полная жизнелюбия и весеннего душевного порыва песня этой молодежи, — словно свежее дыхание проникает со сцены в зрительный зал.
«Город юности» (либретто С. Северцева по мотивам романа В. Кетлинской «Мужество») рассказывает о строителях города Комсомольска-на-Амуре. Это уже сравнительно давняя страница нашей истории. Но, право, в опере Шантыря и челябинском спектакле мало что изменилось бы, будь все это перенесено из 30-х годов в сегодняшний день. Ведь и сегодня девушки едут на новостройки, чтобы работать на благо Родины; и сегодня иной раз случается, что любимый оказывается трусом, способным бежать от трудностей; и сегодня подобный дезертир будет с позором изгнан из комсомольской среды, а девушка, пережив душевную драму, найдет для себя другого — честного и бескорыстного. Вот почему, вопреки хронологической прикрепленности «Города юности» к 30-м годам, мы восприняли спектакль как музыкальную повесть о делах и людях наших дней.
Сюжет оперы жизненный и актуальный. Что же касается либретто, то оно, при всех своих достоинствах, страдает существенными дефектами. Конфликт между основной героиней Тоней и ее возлюбленным Сергеем дан довольно схематично: не успела Тоня высадиться с парохода, как Сергей сразу выкладывает ей свои шкурнические замыслы, а она сразу же понимает, что он «не тот». И хотя в дальнейшем Сергей становится отцом ее будущего ребенка, для развития конфликта остается слишком мало возможностей. И недаром авторы уже в третьей картине навсегда убирают Сергея со сцены, и тут, в сущности, начинается вторая пьеса — о любви Тони и Алеши. Однако сам Алеша теперь уже не успевает, на протяжении трех последних картин, раскрыться во всем богатстве своего душевного мира, его страдания, когда он узнает, что оказался отцом чужого ребенка, мало убеждают. При этом, подвиг Алеши, получившего тяжкие ожоги при тушении подожженного диверсантами склада, хоть и важен для его общей характеристики, но слабо связан с развивающейся линией отношений с Тоней.
Образ парторга стройки Морозова обрисован в либретто, а еще больше в музыке,
очень душевно. Морозов внимателен к людям, отзывчив, умеет завоевать любовь молодежи. Но в действии, на самой стройке, мы его не видим. И снова, как во множестве драматических пьес и опер, наиболее действенными и характерными оказываются отрицательные персонажи — уголовник Василий Махотин да еще замаскировавшийся вражеский агент, «таежный старичок» Силин.
Особенности либретто отразились и на композиторской работе Г. Шантыря. Его музыка привлекает общей теплотой и жизненностью мелодий, искренней лиричностью, а порой и драматизмом (песня-вокализ в пятой картине, начало шестой картины); многое удалось в характеристике Тони, в остром, характерном музыкальном портрете Василия. Очень хороши задумчивая девичья песня и песня-рассказ Морозова во второй картине, полная живого веселья музыка игры в снежки... Подлинной творческой находкой можно считать ансамбль в пятой картине, когда на фоне таежной песни слышатся сжатые волевые реплики Морозова. Опера умело и с выдумкой инструментована. Есть в ней значительные по содержанию оркестровые фрагменты. Все сказанное свидетельствует о несомненном композиторском даровании Г. Шантыря.
В тех эпизодах, где более заметны черты схематизма либретто (особенно грешна этим первая картина), — там и музыка лишается напевности и заполняется скучными «служебными» полумелодиями-полуречитативами. Недостаточно индивидуализированы музыкальные образы Алеши и Сергея. Композитор злоупотребляет медленными темпами, отчего моментами создается ощущение тягучести. Мало развиты ансамбли. А как было бы хорошо, скажем, развернуть уже упоминавшийся ансамбль в пятой картине в квартет! Но здесь все-таки приходится делать скидки на «молодость»: это первая опера Г. Шантыря, и в ней не могли не сказаться некоторые общие недуги нашего оперного творчества.
Коллектив Челябинского театра не убоялся первого опуса малоизвестного автора. Этот «риск» оказался оправданным: театр добился успехов, создав современный, жизненно актуальный спектакль. То, что хорошо в либретто и музыке, — хорошо и на сцене: глубоко чувствующая, лиричная К. Сидорова (Тоня), нашедший удивительно яркий и острый сценический рисунок и вокально очень выразительный В. Павлов (Махотин), теплая и ласковая пара Н. Климин и А. Матвеева (Валька и Клава). Тонко и разнообразно ведет свою роль В. Курочкин (Силин).
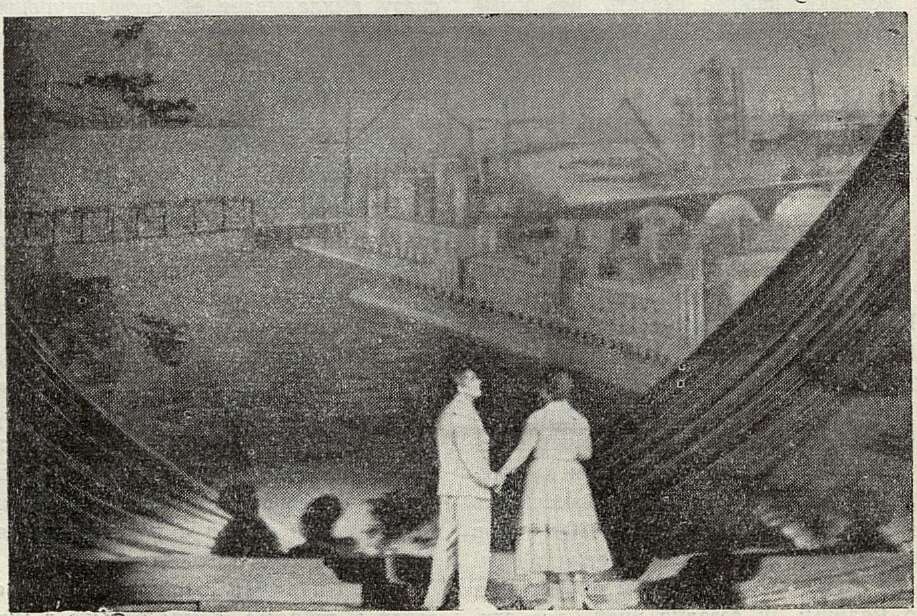
Финальная сцена из оперы «Город юности»
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Знаменательное десятилетие 5
- Песнь — в боевом строю 9
- О нашей военно-духовой музыке 15
- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20
- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25
- Третья симфония Н. Пейко 37
- Две сонаты Н. Ракова 42
- Новый квартет М. Марутаева 45
- Размышления о джазе 48
- Годы изгнания 53
- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62
- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69
- На оперных спектаклях фестиваля 77
- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82
- «Весна поет» Д. Кабалевского 83
- «Боевое крещение» 87
- Новая армянская опера 91
- Оркестр Ленинградской филармонии 95
- Музыка по телевидению 101
- Из концертных залов 104
- Вологодские частушки 119
- С пленума украинских композиторов 126
- Декада советской музыки Казахстана 128
- О музыкальной жизни Перми 129
- На Дальнем Востоке 131
- В столице Бурят-Монголии 133
- К 80-летию Зденка Неедлы 136
- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139
- Священная какофония 144
- Музыка Кубы 147
- Песня, обращенная к сердцу 150
- Советская музыка в Корее 152
- Письмо из Лондона 153
- По страницам музыкальных журналов 154
- Польская газета «Джаз» 157
- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158
- «Воспоминания о Рахманинове» 159
- Детям о классиках 161
- Коротко о книгах 162
- Новые пластинки 164
- Хроника 166



