сти и обаяния; в нем есть настоящая убедительность мысли и чувства, внутренняя логика, своеобразие стиля.
Концерт пронизан здоровой жизнерадостностью, светлым, заразительным юмором. Первая часть произведения и его финал — бурная, стремительная токката — по содержанию более или менее родственны! В них господствуют активное, моторное начало, задорные, скерцозно-игровые образы. Да и вообще драматургия концерта строится не столько на контрастах тем в пределах каждой части, сколько на противопоставлении крайних частей цикла взволнованно-патетическому, певучему Andante. В концерте сталкиваются разнохарактерные по своей жанровой природе части в целом.
Крупный штрих вообще органически присущ Галынину. Это свойство проявляется в мелодике и гармонии, в своеобразном складе полифонии и фактуре его сочинений. Кажется, что художник имеет дело с твердым и благородным материалом и, орудуя резцом, высекает из него прочные, массивные пласты; всегда это работа сильной, уверенной руки, взмах которой не заторможен рефлексией.
Контуры его мелодий определенны, четки и обычно отмечены волевой собранностью, даже в тех случаях, когда это мелодия чисто лирическая. Так, в медленной части фортепианного концерта он щедро пользуется весьма характерными для русской романсовой лирики «открыто» эмоциональными оборотами. Вместе с тем и в основной теме этой части, и в развитии средней темы, поначалу мечтательно-нежной, напоминающей «истомные» ориентальные образы Рахманинова, есть особая внутренняя напряженность, придающая лирике черты мужественного пафоса. Это подчеркивается скупостью аккордового сопровождения (которое приобретает в главной теме характер скорбного марша), суровой тональной окраской, энергичными полифоническими напластованиями:
Пример
Пример
Полифоничность — одно из характерных и весьма интересных качеств музыки Галынина. Показательно в этом смысле его фортепианное трио, где композитор, отталкиваясь от форм классической полифонии, создает смелое, вполне современное по содержанию произведение. Но еще более типично для композитора свободное применение полифонических приемов.
В «Эпической поэме» мы встречаем развитую ткань напевных подголосков в духе народной полифонии. В фортепианном концерте преобладает принцип имитационности, неожиданных наложений, усиливающих выразительность образов. И любопытно, что при всей своей склонности к полифонии Г. Галынин избегает такого традиционного приема, как фугато в начале разработки.
Стремление к цельности, к лапидарности образов сказывается и в фактуре, и в ладо-гармоническом языке концерта, и в его драматургии. Концерт открывается лаконичным оркестровым вступлением — как бы сигналом к началу действия. Сразу же вслед за ним появляется главная партия первой части. Эти образы юной кипучей энергии и напористости господствуют во всей части (а в косвенном смысле — и во всем концерте). Доминируют и ритмо-интонационные обороты главной партии: они служат основным «строительным» материалом для создания других тем-образов первой части.
В этом нетрудно убедиться, сравнив главную партию с побочной — прозрачной, наивно-простой и в то же время удивительно свежей:
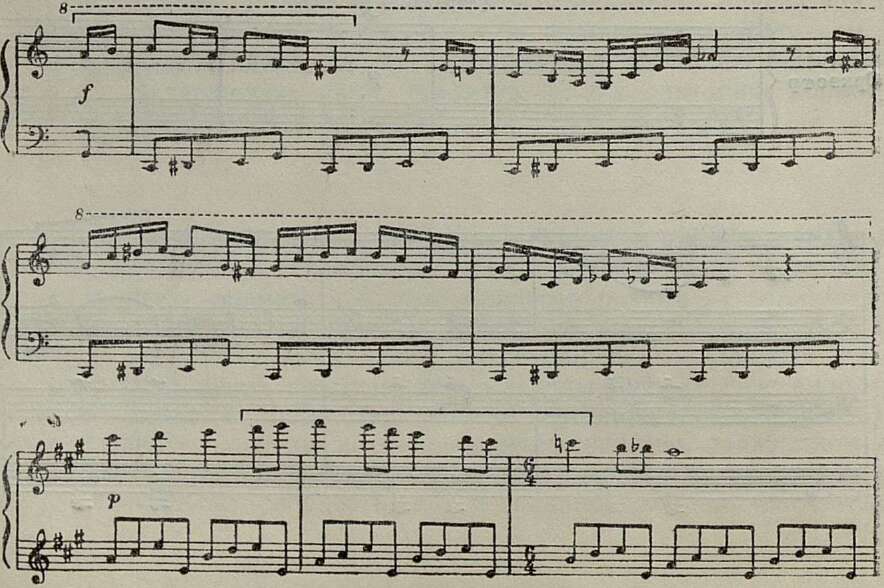
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Вперед и выше 5
- О творчестве Г. Галынина 11
- Новая опера К. Дзержинского 19
- Третья симфония Ш. Мшвелидзе 30
- «Сталинградские картины» 36
- Музыкознание в республиках Прибалтики 39
- Молодежь впереди (Заметки об азербайджанской музыке) 53
- Успех литовского композитора 60
- Народные хоры и народное творчество 65
- Из истории литовской песни 71
- Композитор как интерпретатор 84
- «Свадьба Фигаро» 87
- Из концертных залов 99
- О грамофонной пластинке 115
- Для тружеников полей 120
- Дом Чайковского в Клину 123
- Песни новоселов в приуральской степи 125
- У композиторов Таджикистана 127
- Творческие проблемы венгерской музыки 130
- Хор имени Пятницкого в Германии 137
- Английский журнал о советском музыкальном театре 139
- Письмо из Лондона 141
- Концерты Д. Ойстраха в Англии 142
- В несколько строк 143
- О первом выпуске ежегодника «Вопросы музыкознания» 147
- Глинкинский календарь 153
- Новые издания Баха и Генделя 155
- Баховский альбом 156
- Оперные путеводители 157
- Нотографические заметки 160
- Сатирикон 163
- Хроника 165



