терных для последних произведений С. Прокофьева). В результате этого органичного «сплава» скерцо покоряет свежестью, художественно оправданной новизной.
Третья часть, как и первая, в основном лирическая по своему складу. Но она гораздо лаконичнее по форме и, главное, драматичнее в выражении чувств. Образы светлой и нежной грусти сменяются глубоким раздумьем, острые, насыщенные кульминации — задушевным лирическим эпизодом, завершающим эту выразительную часть. Можно порадоваться художественной чуткости молодого автора, сумевшего не только найти отличный, благородный по стилю мелодический материал, но и раскрыть его в многообразном развитии.
Удачно венчает симфонию финальное рондо (с двумя контрастными эпизодами). Музыка своей энергией и жизнерадостностью рождает образы, уже знакомые слушателю по скерцо, но развитые в более широких симфонических масштабах. Одно лишь существенное замечание: в репризе и коде финала Р. Гаджиеву изменило свойственное ему чувство формы и он допустил излишние повторы; вряд ли оправдано, например, новое проведение главной темы финала и побочной партии из первой части. Мало вяжется с общим характером произведения внешне торжественный апофеоз, завершающий симфонию.
Не меньший интерес слушателей вызвала программная симфония Г. Рзаева «Бабек». Имя Бабека — героя освободительной борьбы азербайджанского народа против арабских захватчиков (IX век) — поныне живет в памяти народа; образ Бабека запечатлен в старинных народных преданиях и песнях.
Симфония Г. Рзаева уступает сочинению Р. Гаджиева в смысле стройности изложения материала, завершенности формы. Автор подчас оказывается в чрезмерной зависимости от литературной программы: стремясь «описать» каждый сюжетный поворот, он иногда дробит музыкальное повествование, загромождает его изобразительными деталями. Таков, например, несколько грубоватый маршевый эпизод в скерцо, рисующий шествие отрядов Бабека. Однообразно изложение главной темы в разработке финала (написанного в форме двойной фуги).
Но, несмотря на эти композиционные просчеты, в произведении проявилась богатая фантазия молодого автора; лучшие эпизоды симфонии проникнуты яркостью и силой национально характерных образов. Таков, например, в первой части эпизод нашествия арабов (начало разработки) с его броской, чеканной темой, которая в столкновении с темами Бабека и народа приводит к драматической кульминации.
Живописно-изобразительны крайние части скерцо («Крепость в горах»), заставляющие вспомнить некоторые страницы «пейзажной музыки» Берлиоза. В скерцо немало интересных и свежих оркестровых находок (прекрасно использовано, например, звучание группы струнных
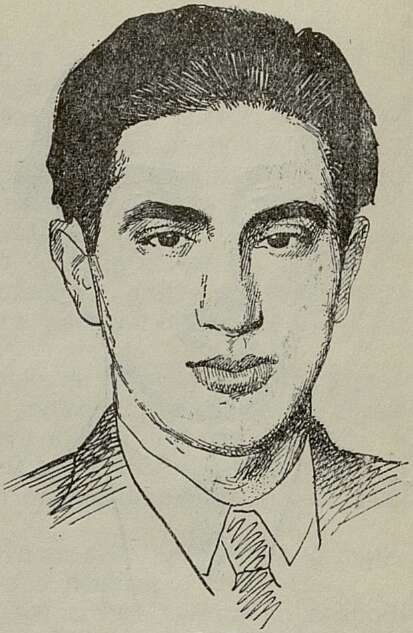
Р. Гаджиев
Рис. худ. Е. Коротковой
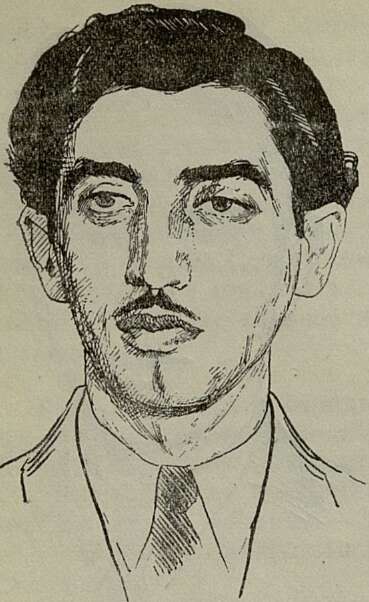
Г. Рзаев
Рис. худ. M. Митряшкина
в высоком регистре и стремительном движении). Жаль, что с такой выразительной музыкой соседствует уже упомянутый маршевый эпизод, построенный на внешне-иллюстративных приемах.
Центральное место в симфонии занимает третья часть. Музыкальное повествование о народном герое подходит к трагической кульминации: преданного изменниками Бабека ведут на казнь. Звучит тема траурного шествия. Суровый, сдержанно скорбный образ в последующем развитии постепенно разрастается в драматическую картину народного горя. Кульминация этой монументальной картины — предсмертный монолог Бабека. Тромбоны проводят знакомую нам по первой части героическую тему, но здесь она звучит более величественно и в то же время трагически напряженно.
Финал, следующий без перерыва после третьей части, страдает длиннотами, что, естественно, сказывается и на силе его воздействия. Но и здесь есть яркие эпизоды, рельефные темы-образы (вторая тема двойной фуги и построенная на ней торжественная кода симфонии).
Симфонии Г. Рзаева и Р. Гаджиева, повторяем, не свободны от существенных недостатков, в какой-то мере естественных для молодых авторов. Тем не менее обе симфонии — значительные явления в развитии азербайджанской музыки. Опыт двух молодых композиторов во многом поучителен и для других наших симфонистов благодаря интересному развитию национальной формы, творческому, самобытному решению проблемы программности.
Среди других произведений молодых композиторов отметим скрипичный концерт Азера Рзаева. Журнал «Советская музыка» (в № 11 за 1954 г.) уже рассказал об этом интересном произведении.
Прозвучавший на пленуме фортепианный концерт Э. Назировой представляется нам менее удачным. Трудно в этой мило звучащей, не лишенной изящества музыке идиллического склада услышать мелодически яркий и четкий образ. В концерте очень мало контрастности, динамических сопоставлений. Недостаточно расчетливо отнесся автор к соотношению оркестровой и солирующей партий.
Две симфонические поэмы — «Над Ленинградом» X. Джафарова (по одноименной поэме М. Рагима) и «Чапаев» Ю. Газанчяна — не составляют столь ярких удач, как симфонии Г. Рзаева и Р. Гаджиева. Недостатки обоих произведений сходны: подлинное симфоническое развитие порой подменяется в них шумными кульминациями, изобилием оркестровых tutti. Следует все же отметить, что в поэме «Над Ленинградом» музыкальные образы яснее, развитие (в экспозиции) стремительнее. Успех будущих произведений молодых композиторов, чьи поиски в области программной музыки заслуживают поощрения, будет зависеть от более настойчивой работы над совершенствованием мастерства.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Вперед и выше 5
- О творчестве Г. Галынина 11
- Новая опера К. Дзержинского 19
- Третья симфония Ш. Мшвелидзе 30
- «Сталинградские картины» 36
- Музыкознание в республиках Прибалтики 39
- Молодежь впереди (Заметки об азербайджанской музыке) 53
- Успех литовского композитора 60
- Народные хоры и народное творчество 65
- Из истории литовской песни 71
- Композитор как интерпретатор 84
- «Свадьба Фигаро» 87
- Из концертных залов 99
- О грамофонной пластинке 115
- Для тружеников полей 120
- Дом Чайковского в Клину 123
- Песни новоселов в приуральской степи 125
- У композиторов Таджикистана 127
- Творческие проблемы венгерской музыки 130
- Хор имени Пятницкого в Германии 137
- Английский журнал о советском музыкальном театре 139
- Письмо из Лондона 141
- Концерты Д. Ойстраха в Англии 142
- В несколько строк 143
- О первом выпуске ежегодника «Вопросы музыкознания» 147
- Глинкинский календарь 153
- Новые издания Баха и Генделя 155
- Баховский альбом 156
- Оперные путеводители 157
- Нотографические заметки 160
- Сатирикон 163
- Хроника 165



