буржуазного музыкального искусства. В то время как западноевропейская музыка могла выдвинуть лишь отдельные ценные, реалистические произведения, такие, как, например, «Отелло» и «Фальстаф» Верди или Третья и Четвертая симфонии Брамса, русская музыка победоносно выступала как целостная школа, как широкое направление, единое по своим высоким идейно-творческим принципам, по своему высокому художественному уровню.
Однако веяния модернизма стали сказываться в начале 1900-х годов и в русской музыке, отражая начавшийся идейный кризис в некоторых кругах русской интеллигенции.
Проявления модернизма в творчестве русских композиторов носили сперва «умеренный» характер и касались лишь второстепенных композиторов. Таково было, например, творчество Ребикова — «пустоцвета русского модернизма», по меткому определению Б. Асафьева. Постепенно, однако, модернистские влияния стали распространяться все шире; все губительнее отзывались на творчестве и эстетических воззрениях музыкантов всевозможные «модные» реакционно-идеалистические теории и теорийки.
Римский-Корсаков в начале века оказался в атмосфере разгоравшейся идейнотворческой борьбы и, естественно, не мог остаться нейтральным наблюдателем.
Новые исследования советских музыковедов1, основанные на изучении документов и материалов, до последнего времени неизвестных и не публиковавшихся, восстановили подлинную картину общественной и творческой деятельности Римского-Корсакова в последний период его жизни.
Эти исследования развеяли легенду об общественной «пассивности» Римского-Корсакова, о его политическом «нейтралитете» в период, предшествовавший революции 1905 года, и в годы реакции, наступившие после поражения революции. И ныне Римский-Корсаков предстает перед нами как верный последователь демократических традиций русского искусства XIX века, как передовой музыкант эпохи первой русской революции.
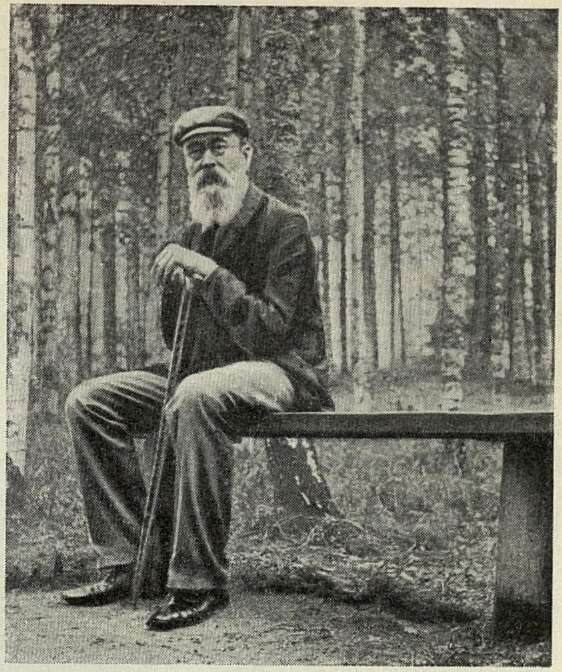
Н. А. Римский-Корсаков в Вечаше (1903 г.)
В свое время возникла еще одна легенда, связанная непосредственно с творчеством Римского-Корсакова. Легенда эта утверждает, будто в своих последних операх композитор примкнул к антиреалистическому направлению и стал чуть ли не основоположником... русского музыкального модернизма. Эта легенда приводит к отрыву Римского-Корсакова от всей русской музыкальной классики и служит одним из оснований глубоко порочной, вреднейшей, антинаучной «теории перерастания классики в модернизм».
Большинство советских музыкантов отвергло и эту легенду. Однако тот факт, что отзвуки ее до последнего времени дают еще о себе знать в отдельных музыковедческих работах, диктует необходимость выступить против нее самым решительным образом.
* * *
Когда, при каких обстоятельствах и под влиянием каких причин возникла эта «модернистская легенда» о Римском-Корсакове? Каков ее объективный смысл? Вот вопросы, на которые необходимо дать ясный и четкий ответ.
_________
1 А. Римский-Корсаков. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Выпуск V. Музгиз, М., 1946; А. Гозенпуд. «Н. А. Римский-Корсаков (По неопубликованным документам)». «Советская музыка», 1950, № 2; М. Янковский. Римский-Корсаков и революция 1905 года. Музгиз, М. — Л., 1950.
Прежде всего, надо напомнить, что речь идет о трех последних операх Римского-Корсакова: о «Кащее», «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и «Золотом петушке», т. е. об операх, написанных в период между 1902 и 1907 гг., когда, как уже было сказано, Римский-Корсаков проявил себя передовым музыкально-общественным деятелем.
Весьма характерно отношение к последним операм Римского-Корсакова современной ему критики. Здесь без особого труда можно усмотреть две основные тенденции.
Первая тенденция, с наибольшей обнаженностью проявившаяся по отношению к «Золотому петушку», заключалась в стремлении всячески затушевать политический характер и сатирическую направленность оперы, освободить ее от возможных ассоциаций с современностью, сделать ее в глазах публики произведением аполитичным, безидейным. Эта тенденция объективно содействовала официальной николаевской цензуре, грубо искажавшей текст, а следовательно, и смысл оперы и в конце концов вовсе запретившей ее постановку («Золотой петушок» впервые был поставлен на сцене уже после смерти Римского-Корсакова).
Вторая тенденция, также исходившая из модернистских кругов, ставила перед собой более сложную задачу. Поначалу это было просто стремление умалить значение Римского-Корсакова как композитора по сравнению с новым, разраставшимся движением модернизма. Эту тенденцию очень ясно пытались проводить в своей деятельности, в частности, организаторы «Вечеров современной музыки», идеологи так называемого «современничества».
Чрезвычайно сдержанный в отношении к критикам своего творчества, Римский-Корсаков все же делает в своем дневнике весьма характерную запись: «...нахальные и безухие руководители вечеров современной музыки рукоплещут ему [речь идет о Дебюсси — Д. К] и противупоставляют устарелому Глазунову, Римскому-Корсакову и другим, видя в нем освежающую струю»1.
Однако авторитет Римского-Корсакова был слишком велик, любовь к нему со стороны широкой демократической публики была слишком глубока, чтобы можно было просто «устранить» его влияние в русской музыкальной жизни. В то же время Римский-Корсаков слишком энергично восставал против модернизма, и представители последнего не могли спокойно с этим мириться.
Тогда модернистская критика перешла на иную позицию: она попыталась превратить Римского-Корсакова из противника в «союзника», попыталась сделать его «своим». Не в том, конечно, смысле, чтобы обратить Римского-Корсакова в «модернистскую веру» — это было бы безнадежной попыткой, а в том смысле, чтобы представить его публике как своего союзника, «прикрыть» модернистское направление в музыке его крупным авторитетом и создать таким образом видимость «органической связи» между классикой и модернизмом.
Подобные попытки «обоснования» связей между модернизмом и классикой делались путем искажения идейно-художественного облика не только Римского-Корсакова. Так, в очерке, посвященном памяти Скрябина, критик-модернист В. Каратыгин пытался установить прямую «преемственность» между поздним Скрябиным и Чайковским на том основании, что оба они в своем творчестве были якобы лишены национальных корней и оба были субъективистами.
Нет нужды приводить здесь многочисленные высказывания различных критиков-модернистов о Мусоргском, Бородине и даже Глинке, как композиторах, в чьем творчестве будто бы зародился... импрессионизм XX века. Эти высказывания хорошо известны. Известно также и то, что некоторые французские композиторы-импрессионисты охотно обосновывали свое «новаторство» творческим опытом великих русских композиторов-классиков, в особенности опытом кучкистов. Так зародилась и «модернистская легенда» о Римском-Корсакове.
Трудно с полной определенностью установить, когда и кем было заложено «основание» этой легенды. Во всяком случае уже в 1902 году, после первой постановки «Кащея» в Москве, критик Ю. Энгель весьма легко оперировал в своей статье терминами «импрессионизм» и «декадентство» в применении к новой опере Рим-
_________
1 Н. Римский-Коpсаков. Дневник. Запись от 9 марта 1904 года.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Навстречу запросам советских людей 3
- За боевую музыкальную критику 8
- Творчество композиторов Советской Украины 17
- Композитор и театр 23
- «В грозный год» 29
- Песни гнева и борьбы 33
- Мы в Советском Союзе 37
- Учиться у советских мастеров 47
- О внимании к народным хорам 50
- Вологодские песенницы 53
- Польские друзья Глинки 56
- Римский-Корсаков и модернизм. Очерк 1 62
- Бернандт Гр. Вагнер и Одоевский 76
- Седьмая симфония Шостаковича 81
- Двадцать седьмая симфония Мясковского 82
- Симфонические произведения Рахманинова 83
- Инструменталисты 83
- Певицы. Елизавета Чавдарь 86
- Певицы. Зара Долуханова 87
- Певицы. Нина Гусельникова 87
- Певицы. Елена Грибова 88
- Конкурс на лучшее исполнение советской музыки 88
- Хроника концертной жизни 89
- Упущенная возможность 91
- Забота о слушателе 93
- На украинском пленуме 96
- Пожелания рабочих 97
- Разнообразить репертуар 97
- Университет музыкальной культуры 98
- О музыкальных радиопередачах 99
- Что мешает нашему росту 99
- Где приобрести ноты? 100
- О репертуаре для духовых оркестров 100
- Нужна музыкальная библиотека 100
- В новом Китае 101
- Вопросы музыки в ленинградских газетах 114
- По страницам газет 116
- Литературное наследие Глинки 118
- Книга о великой артистке 121
- Молодежь Большого театра 122
- Полезное пособие 123
- С. А. Современные народные песни 124
- Т. К. Песни о свободном труде 124
- «Орфей» Е. Фомина 125
- Л. Р. Пьесы Р. Глиэра для контрабаса 125
- Прелюдии Л. Аустер 126
- Сборник танцевальных пьес 126
- «Улучшить работу музыкального издательства» 127
- В Союзе советских композиторов 128
- Комсомольцы в гостях у композиторов 128
- Встреча молодых композиторов и поэтов 128
- Вечер памяти С. Прокофьева 129
- Композиторы на автозаводе 129
- Долгозвучащие грампластинки 129
- Открытие памятника С. Гулаку-Артемовскому 130



