ный» круг образов колыбельных, погребальных эпитафий и апофеозных «слав», которыми, как правило, авторы ограничивают свою творческую фантазию в ораториально-кантатном жанре, обедняет художественные ресурсы композиторов. Следует пожалеть, что Левитин в этом смысле также не проявил достаточной самостоятельности художественного замысла. Ведь нашел же Шостакович со свойственной ему оригинальностью мышления яркие «образы юности» в своей оратории («Пионеры сажают леса»). Сумел же Шапорин в своей симфонии-кантате «На поле Куликовом» ввести свежие, колоритные литературно-музыкальные образы (баллада витязя, каватина невесты), а в оратории «Битва за русскую землю» — образы «нашествия», «плача женщин», военной песни и т. д.
Почему же в ряде других случаев даже квалифицированные и одаренные композиторы оказываются несвободными от пассивного, бездумного подражательства? Продолжать и развивать традиции вовсе не значит повторять уже найденные приемы. Подлинное творчество не мыслится без того, чтобы композитор, обращаясь к темам и сюжетам современности, хотя бы и получившим уже воплощение у других авторов, не привносил бы в них нечто свое, новое, самостоятельное, не обогащал бы эти темы раскрытием в них новых, еще не освещенных сторон.
К сожалению, Ю. Левитин в ряде эпизодов своей оратории перепевает, повторяет известные образцы. Такие моменты оратории, как реминисценции о Великой Отечественной войне в прямом сопоставлении с картинами мирного труда, как «прогулка в будущее», торжественная «Слава» в финале, — все это уже знакомо нам по «Песни о лесах» Шостаковича.
В связи с воплощением в советской музыке темы великих строек коммунизма возникают и некоторые другие проблемы.
Советские поэты и композиторы, обращаясь к этой теме, нередко пользуются приемом музыкального пейзажа. Пейзаж как средство, способствующее раскрытию образов Родины, передаче душевного состояния, настроения, всегда широко использовался в произведениях композиторов-классиков, а также в народной песне. Однако, обращаясь к музыкальному пейзажу, композиторы часто ограничиваются любованием картинами природы, передачей идиллического настроения, забывая при этом о советском человеке — смелом преобразователе природы, строителе но-
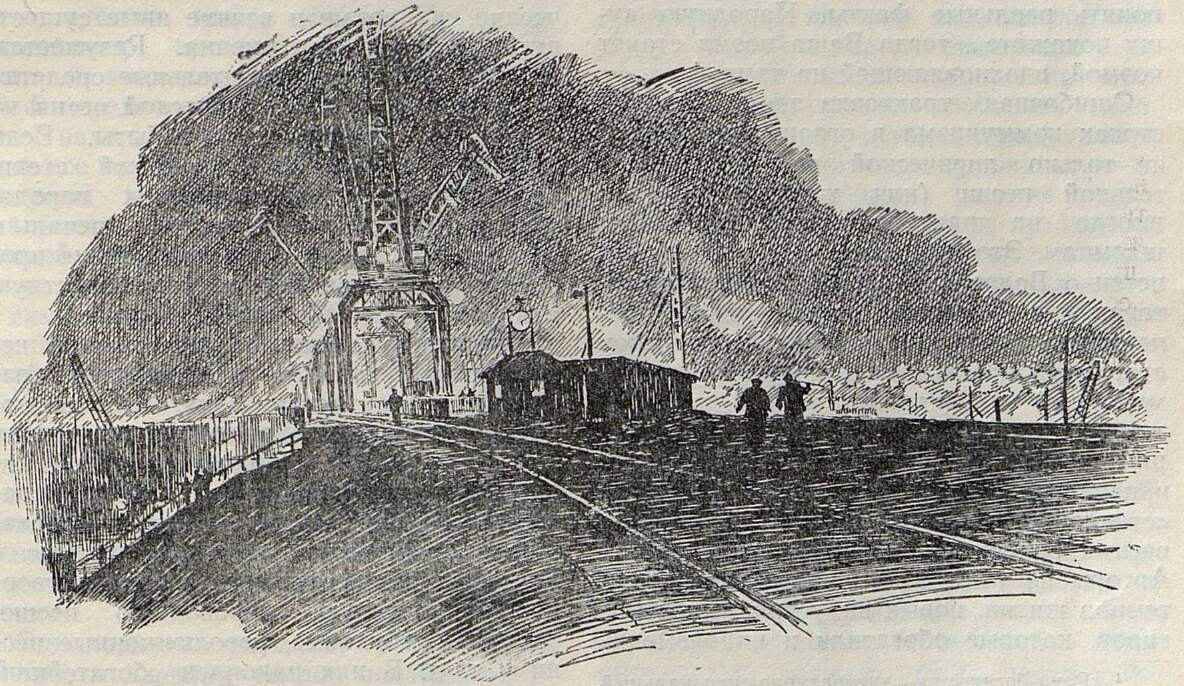
Цимлянский гидроузел ночью
Рис. О. Шухвостова
вой жизни. Сам музыкальный пейзаж в ряде случаев оказывается пассивным, ретроспективным перепеванием образов пустынных просторов полей, степных курганов и волжского речного раздолья. У иных авторов подобная односторонняя трактовка современной темы возникает в результате ложной художественной концепции.
В очерке писателя Ф. Панферова «Движение к великой цели» приведены характерные высказывания композитора, приехавшего на строительство Волго-Донского канала: «Хочу послушать степь. Я собираюсь написать музыкальную поэму о канале Волга—Дон. Понимаете, поэму! А канал перерезает степь. Значит, я должен знать душу степей. Понимаете? Вот послушайте», — и он тихо пропел мелодию степи. Сейчас он сидит зачарованный, как и мы, равномерным звоном, отблесками костра... Так мы молча просидели минут сорок... Он неожиданно встрепенулся, беспомощно развел руки и дрожащим голосом произнес: «Ну как? Как всю эту красоту передать в музыке?.. Ведь это гениальная симфония — песня ночных степей».
Автор очерка справедливо критикует эти «пасторальные» фантазии композитора: «Уж если Вы хотите написать о канале настоящую музыку, то Вам нужно понять реальные факты. Народную душу покажите... тогда Ваша поэма станет поэмой, вдохновляющей на труд»1.
Ошибочная трактовка темы великих строек коммунизма в ограниченном плане только лирической пейзажно-описательной песни (или хора) приводит иногда на практике к нежелательным штампам. Это уже заметно в ряде новых песен о Волго-Доне, для которых характерны стилизованная медлительная распевность, бледное копирование попевок старинной крестьянской песни, грустный, минорный колорит. Медленный, тягучий темп такого рода песен приобретает характер формального творческого приема, направленного к изображению безлюдной «степной шири» и проистекающего из весьма субъективного отношения к теме. Авторы не учитывают новых ритмов и темпов жизни, новых индустриальных мотивов, которые обогатили и видоизменили старый пейзаж; без этих новых, современных признаков невозможно отобразить бурное кипение великих дел нашей эпохи.
Попытки ограничить раскрытие темы традиционным идиллическим пейзажем идут прежде всего от пассивности художественного мышления, от индивидуалистического «лирического созерцания» природы, от кабинетных представлений, почерпнутых скорее из далекого прошлого, нежели из живого и вдумчивого вглядывания в новый индустриальный пейзаж великой сталинской стройки на великой русской реке. А ведь здесь совсем по-новому воспринимается красота извечной шири и могучести родной природы: на волжских берегах появились новые, гигантские машины и сооружения, сложная техника, умные механизмы.
Следует понять, что речь идет вовсе не о том, чтобы передать в музыке «машинный колорит», изобразить рокот моторов или шум экскаваторов. Главное — верно отразить в музыкальных образах новые характеры волевых, самоотверженных тружеников-патриотов, покоряющих и преобразующих природу, а не пассивно созерцающих ее. Путь к этим большим художественным обобщениям пролегает и через современный музыкальный пейзаж, так же как через эпические, лирические, жанровые и всякие иные существующие формы выражения. Разумеется, что излюбленные выразительные средства старинной русской лирической песни не могут быть отброшены и забыты. Ведь образы Волги, Дона, широкой степи, воспетые в прекрасных песнях народа, издавна выражали не только печаль и угнетенность души, но и стремление простых русских людей к счастью, страстную мечту о светлом будущем Родины.
Русская протяжная песня полна неизъяснимой поэзии, искренности, красоты и силы чувства. Она вполне способна передать лирические настроения советских людей. Обращение к ней наших композиторов поэтому вполне закономерно. Однако нет никаких оснований игнорировать другие самобытные и не менее яркие формы народного творчества: плясовую, хороводную песню, частушку, трудовые, революционные песни и т. д. В них накоплен богатейший запас разнообразных выразительных возможностей, могущих получить в совре-
_________
1 «"Река-богатырь" — литературно-музыкальный концерт». Брошюра «Вечер в Доме культуры», изд. «Искусство», М., 1952, стр. 15 и 16.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Сталинские лауреаты 3
- Служение современности 9
- «Огни над Волгой» 16
- О композиторской молодежи 27
- Проблема музыкального жанра и реализм 31
- Горький и Шаляпин (Очерк первый) 40
- Новые времена — новые песни 54
- Опера на колхозной сцене 64
- В Каховке 68
- Музыка в клубе 70
- Классическую оперу — на экран 73
- В защиту жанра оперетты 79
- Юбилейный вечер Россини 87
- Мастера венгерского искусства в Москве 90
- Глазунов — Чайковский 92
- Вечер азербайджанской музыки 92
- На концерте Молодежного оркестра 93
- Выступления Вилли Ферреро 94
- Концерт Л. Оборина 95
- Выступление молодого пианиста 95
- Произведения для духового оркестра 96
- Талантливый баянист 98
- Хроника концертной жизни 98
- Рижские впечатления 100
- У композиторов Одессы 101
- Развивать лучшие традиции русской музыки 103
- Вопросы музыки на страницах «Правды Востока» 105
- В Союзе советских композиторов 107
- В несколько строк 111
- Крупный советский музыкант (К 75-летию А. Ф. Гедике) 112
- Письма А. П. Бородина 114
- Хорошее начинание и досадные небрежности 116
- Новое в советской глинкиане 117
- Музыкальная жизнь народной Албании 119
- «Похождения распутника» (О новой опере И. Стравинского) 120
- Зарубежная хроника 121
- Знаменательные даты 123



