щими истинный смысл и значение творчества Бетховена, выступают А. Серов, В. Стасов, П. Чайковский.
Россия выдвигает замечательных исполнителей музыки Бетховена: братьев Рубинштейн, Балакирева, Есипову, Рахманинова, Давыдова. Балакирев юношей дирижировал в доме Улыбышева симфониями Бетховена, исполнял также большинство его фортепианных сонат. В период руководства концертами Бесплатной музыкальной школы Балакирев осуществил постановку 9-й симфонии (с хором любителей) . Особо следует отметить энергичную деятельность Николая Рубинштейна в качестве дирижера — исполнителя бетховенских симфоний и Антона Рубинштейна как пианиста и дирижера.
Нужно подчеркнуть, что именно русские музыканты, передовые деятели русской культуры, выступили убежденными пропагандистами революционного творчества Бетховена, последовательными защитниками его от злобных нападок косной, реакционной филистерской «критики».
В самом начале 50-х годов со страстной и целенаправленной пропагандой бетховенского творчества выступил А. Серов. Последователь Белинского и Чернышевского, Серов поставил перед собой задачу раскрыть идейный смысл творчества Бетховена, принципы его мастерства, очистить понимание бетховенского искусства от пустых, бессодержательных или явно искажающих толкований и оценок. На материале произведений Бетховена и в особенности его симфоний — «девяти миров симфонических» — Серов поднимал важнейшие общеэстетические вопросы, в частности о содержательности и программности инструментальной музыки.
Борьбу за верное и обоснованное понимание бетховенского творчества Серову приходилось вести в трудной обстановке. Имя Бетховена было уже широко известным, о его творчестве выходили специальные работы (Улыбышев, Ленц). Но чем больше обнаруживалось передовое содержание бетховенской музыки, тем с большей силой разгоралась вокруг нее борьба в условиях обострявшихся общественных противоречий России 50-х–60-х годов.
Улыбышев, уже затронувший проблему Бетховена в своей работе о Моцарте (1843 год), выступил в 1857 году со специальным исследованием, в котором стремился «доказать» упадок музыки в творчестве Бетховена. Отдавая должное дарованию Бетховена (которого Улыбышев называл «самым великим из нового поколения музыкантов»), считая, что «ему и было предназначено пойти во главе века, потому что весь век дышал в нем», Улыбышев в то же время подчеркивал, что Бетховен нарушил все законы целесообразности, равновесия, жанра и что его «невозможной музыке» могут «симпатизировать» только «революционеры, охваченные головокружением атеизма и коммунизма, ревнители невозможного» (разрядка моя — А. X.).
Улыбышев выражал взгляды и вкусы тех, кого пугал истинный смысл демократического искусства Бетховена.
С другой стороны, от лица профессиональных, «цеховых» музыкантов шли попытки школьного, схоластического подхода к великим созданиям композитора, гансликианские, формалистические тенденции. Серов одинаково страстно восстает и против «пустозвонства», расточавшегося «неправдивым» пером Улыбышева, и против гансликовских «софизмов», против низкого уровня художественных вкусов,
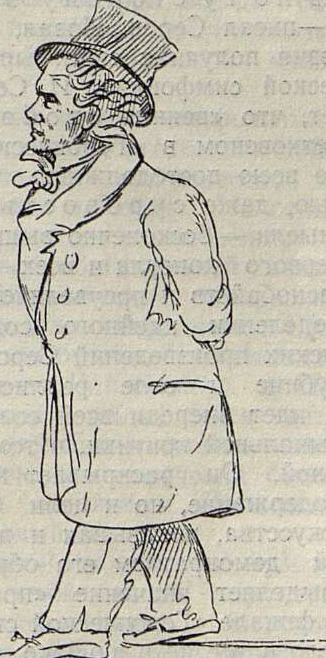
определявшихся в основном аристократией. Тема Бетховена проходит не только в специально посвященных ему работах Серова, но и во всех его статьях по вопросам инструментальной музыки, исторического развития музыкального искусства.
В статье «Тематизм увертюры «Леонора» Серов последовательно развивает мысль о содержательности бетховенского творчества. «Если в произведениях этого величайшего музыкального поэта, — пишет он, — мы будем следить за нотами и аккордами исключительно как за нотами и аккордами, не раскрывая их глубокого значения, не видя в них драматического действия и душевной деятельности... будем ли мы иметь право сказать, что мы понимаем Бетховена?»
Серов признает совершенство бетховенских форм, но предостерегает от переключения внимания «на отдельные звуки, на красоту форм... а не на воплощение мысли, которой все подчиняется». Он решительно восстает против вульгаризаторских толкований бетховенской музыки.
В творчестве Бетховена, «ярого демократа в душе», Серов видел отображение Французской буржуазной революции 1789 года. «Бетховену было около 20-ти лет во время мирового переворота, совершившегося во Франции. «Рубикон» был перейден; Гайдно-Моцартовская поэзия очутилась по ту сторону этого «Рубикона», — писал Серов. Новая, бетховенская поэзия получила свое выражение в «Героической симфонии». И Серов подчеркивает, что «веяния свободы, воспетой Бетховеном в «Героической» симфонии со всею достодолжною чистотою, строгостью, даже суровостью героической мысли, — бесконечно выше солдатчины первого консула и всех французских краснобайств и преувеличений».
В определении идейного содержания бетховенских произведений Серов, благодаря глубине и силе реалистического анализа, идет впереди всей современной ему музыкальной критики, в том числе и зарубежной. Он раскрывает не только общее содержание, но и цели бетховенского искусства, показывая и доказывая истинный демократизм его образов. Он особо выделяет значение «празднества мира» в финале «Героической симфонии» («Тут дело вовсе не в войне, а в ее результате, оттого такой сильный напор на «празднество мира» в великолепном финале») и кантату-финал 9-й, ярко характеризуя ее «простолюдное веселье», «простой», будто «всенародный» напев «Гимна к радости», «наивность форм», близкую «к народной площадной музыке». Очень важна и нова мысль Серова о том, что «у Шиллера все люди становятся братьями» там, где «веет кроткое крыло радости», а Бетховен показывает, что «истинная радость там только и веет, где все люди — братья». Така я философски-материалистическая постановка вопроса обнаруживает высоту позиций Серова в его подходе к бетховенской музыке.
Серову принадлежит большая заслуга раскрытия диалектичности образно-тематическою развития в музыке Бетховена. Он прекрасно понимал единство драматургического замысла бетховенских симфоний и рассматривал их как развитие единой идеи, а не как сумму отдельных частей. Серов последовательно прилагает к творчеству Бетховена одну из важнейших мыслей, пронизывающих всю его критическую деятельность: «Искусство постоянно, беспрерывно видоизменяется вместе с жизнью племен человеческих...»
Статьи Серова очень важны и с точки зрения его оценки бетховенского мастерства — принципов построения формы, приемов развития, качества звучания. На материале произведений Бетховена л Глинки Серов разработал новые, оказавшиеся глубоко обоснованными и плодотворными, методы реалистического анализа инструментальной музыки.
«...Музыкальный смысл должен быть конкретно раскрыт в данном произведении... С другой стороны, объяснения должны быть объективны в той степени, в какой объективно всякое истинно художественное творение», — писал Серов.
Стасов, композиторы Могучей кучки, Чайковский, Танеев во многом продолжили и развили мысли Серова о творчестве Бетховена. Стасов подчеркивал одну из существеннейших сторон Бетховена — его умение раскрывать «жизнь масс», его революционную направленность. В переписке Стасова с Балакиревым есть знаменательное место: Балакирев услышал в концертной увертюре Бетховена ор. 124 «закипающие морские волны», которые
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- За новый подъем советской музыки 3
- Великие традиции русской музыки 6
- О мастерстве 11
- Бетховен наших дней 28
- Гоголь и музыка 37
- Музыка в жизни и творчестве Гоголя 44
- Бетховен и русская музыкальная культура 49
- Симфонизм Бетховена 56
- Неопубликованная рукопись эскизов бетховенской сонаты 61
- О стиле массовой песни 75
- В долгу перед народом 79
- Слово в песне 82
- От Волги до Дона 86
- Музыкальная школа в совхозе 92
- Заметки слушателя 95
- Бетховенские концерты 97
- Грузинский квартет 98
- Концерты румынского оркестра 99
- Творческие встречи 101
- Юбилей Россини 101
- Хроника концертной жизни 102
- Широко распространять ценный опыт 104
- Из финских впечатлений (Путевые заметки) 106
- Учимся на опыте советских музыкантов (Письмо из Китая) 109
- Зарубежная хроника 110
- Собрание сочинений Н. В. Лысенко 113
- Интересный сборник 115
- Грузинские народные песни 117
- В Союзе советских композиторов СССР 118
- 75-летие профессора М. И. Табакова 119
- В несколько строк 119
- В. В. Пасхалов 120
- Памяти талантливой негритянской певицы 121
- «Богатырская симфония» 122
- Бесплатная музыкальная школа 122
- Старейший советский композитор 123
- Книжные новинки 124



