важнее, чем создание музыкальными средствами правдивого образа советского человека-героя, с его целеустремленностью, сильной, жизнеутверждающей волей. А эта установка и влечет за собой отсутствие цельности музыкального мышления, прежде всего выражающейся в антимелодичности, в преобладании сухого речитатива, способного выразить лишь внешнюю графичность текста, а не внутренний мир действующих героев. Если бы Прокофьев больше верил в силу коллектива и все это время не находился в отрыве от своей композиторской организации, если бы он не отклонял так решительно все предложения о показе этой оперы в Союзе композиторов, если бы он не держал свою готовую оперу в тайне от общественности до ее концертного показа, — возможно и весьма вероятно, что своевременные критические замечания товарищей помогли бы ему осознать порочность избранного им пути, пересмотреть культивировавшиеся им в одиночестве взгляды и добиться успеха в создании новой оперы на такую значительную и ответственную тему.
Мы надеемся, что этот приведший к таким печальным последствиям опыт послужит уроком для Прокофьева и некоторых других композиторов, которые до сих пор не в силах еще преодолеть свойственный им индивидуализм.
К этому я считаю нужным добавить следующее: до сих пор в нашей среде сохранились еще люди, не только не принимающие вместе со всеми нами участия в борьбе с формалистическим творчеством, но сплошь и рядом демонстрирующие приверженность к своим бывшим формалистическим кумирам. Эти люди составляют хотя и небольшую по количеству, но все же среду, способствующую консервированию формалистического мышления у некоторых композиторов и мешающую их идейно-творческой перестройке.
К этим людям, несомненно, принадлежит дирижер Хайкин, сыгравший поистине роковую роль во всей истории с новой оперой Прокофьева; принадлежит и дирижер Мравинский, который вызывающе-бестактно вел себя на эстраде после исполнения им в Ленинграде 5-й симфонии Шостаковича.
Наличие этих явлений обязывает нас не прекращать самой решительной борьбы со всеми проявлениями формализма в творчестве, со всеми апологетами формалистического направления в музыке.
Если мы не можем назвать сколько-нибудь значительного количества произведений последнего периода, в которых формалистическое музыкальное мышление было бы выражено в агрессивной, яркой форме, из этого, конечно, не следует делать выводов, что позиции социалистического реализма в искусстве уже полностью завоеваны нами. Существует немало произведений, написанных нормальным, как будто бы реалистическим языком, но вместе с тем не являющихся подлинно реалистическими. Лучшим критерием выявления этого можно считать отношение авторов таких произведений к современности, ощущение ими размаха и богатства содержания нашей советской действительности, умение воплотить образы этой действительности живыми музыкальными средствами, тысячью нитей связанными с современным интонационным строем музыки нашего народа.
У нас есть произведения, написанные, как говорят, добрым старым языком, стоящие на позициях безусловного уважения к классическим традициям, но которые лишены жизненности либо потому, что композитор лишь внешне воспроизводит, копирует приемы и интонационный язык классической музыки, не ставя перед собой большой задачи воплощения образов нашей жизни, либо потому, что для композитора традиционный музыкальный язык является средством любования образами прошлого, стилизаторством, уходом от нашей действительности.
В своей исторической речи товарищ Жданов, подчеркивая значение и прогрессивность лучших традиций классической музыки, сказал:
«Мы не утверждаем, что классическое наследство есть абсолютная вершина музыкальной культуры. Если бы мы так говорили, это означало бы признание того, что прогресс кончился на классиках. Но до сих пор классические образцы остаются непревзойденными. Это значит, что надо учиться и учиться, брать из классического музыкального наследства все лучшее, что в нем есть и что необходимо для дальнейшего развития советской музыки».
Что же это лучшее?
Товарищ Жданов говорит:
«Для классической музыки характерны правдивость и реализм, умение достигать единства блестящей художественной формы и глубокого содержания, сочетать высочайшее мастерство с простотой и доступностью. Классической музыке вообще, русской классической музыке в особенности, чужды формализм и грубый натурализм. Для нее характерны высокая идейность, основанная на признании истоков классической музыки в музыкальном творчестве народов, глубокое уважение и любовь к народу, его музыке и песне».
Призывая к борьбе с буржуазными влияниями в советской музыке, товарищ Жданов говорит:
«Задача заключается в том, чтобы утвердить превосходство советской музыки, создать могучую советскую музыку, включающую в себя все лучшее из прошлого развития музыки, которая отображала бы сегодняшний день советского общества и могла бы еще выше поднять культуру нашего народа и его коммунистическую сознательность».
И далее, в заключении речи:
«Если вы используете до дна гениальное классическое музыкальное наследство и вместе с тем разовьете его в духе новых потребностей нашей великой эпохи, вы станете советской «Могучей кучкой».
Эти высказывания товарища Жданова дают ясную программу нашего отношения к классическому наследию, программу того, как и чему мы должны учиться у классиков.
Те качества классического музыкального искусства, на которые указывал товарищ Жданов, еще не достигнуты нами. Мы не умеем еще в прекрасной, совершенной форме воплощать идеи и образы нашей эпохи так, как великие классики русской музыки воплощали демократические, прогрессивные идеи своего времени.
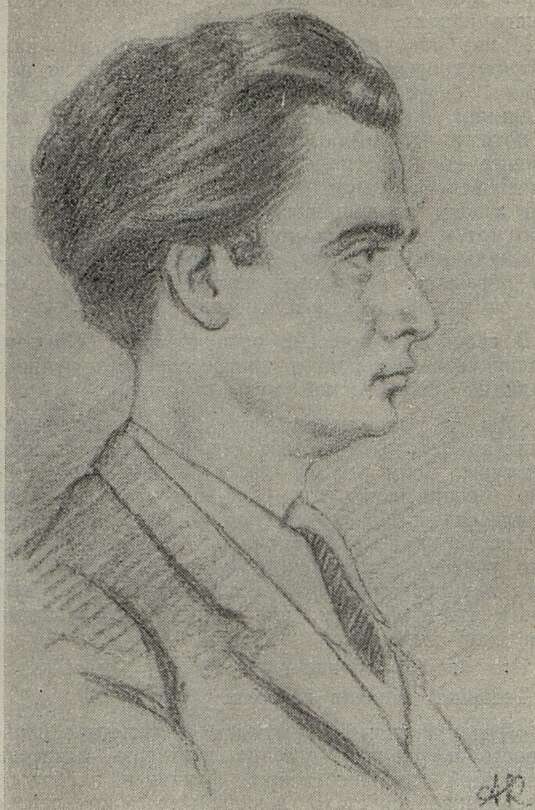
А. Арутюнян
И нашей главной, жизненной задачей является видеть и слышать все прекрасное, что дает нам советская эпоха и, учась у классиков и у народа, правдиво выразить это прекрасное, самое передовое в истории человечества.
Переходя с этой точки зрения к оценке того, что мы слышали на пленуме, я должен сказать, что ретроспективные настроения, обращение к прошлому, занимают еще в нашем творчестве довольно значительное место. Можно прямо удивляться, как композитор Бирюков, избрав для своего сочинения тему Кремля, снижает этот великий образ, каким он ныне представляется сознанию советского народа, изображая мелкие, незначительные сценки из далекого прошлого, умиленно-эстетски созерцая их. Видно, что композитор и не пытался серьезно подойти к этой теме и, обращаясь к прошлому, взять хотя бы некоторые наиболее значительные моменты из истории русского народа, связанные с Кремлем. Ведь, направляя свой взор в старину, композитор мог бы продолжить традиции великих русских композиторов прошлого — Глинки, Мусоргского, для которых образ Кремля был связан с большими государственными, социальными событиями. И здесь, в самом замысле и в его разрешении советский композитор Бирюков оказался консервативнее наших классиков XIX века.
Скрипичный концерт молодого украинского композитора Рождественского — как будто бы первое крупное его произведение. В нем нет определенной программности, но мы не ошибемся, сказав, что наша современность не является содержанием этого произведения. Нельзя отрицать ряда достоинств концерта — стремление к напевности, выразительность мелодического материала в медленных эпизодах, достаточно умелое использование концертирующей скрипки, — это с несомненностью свидетельствует о способностях автора. Вместе с тем необходимо сказать, что от этого концерта остается чувство неудовлетворенности. Уж очень пассивно, я сказал бы даже ученически-подражательно воспроизводит автор музыкальные образы ряда классических скрипичных концертов. И особенно обидно отсутствие в этом концерте украинского национального колорита, который помог бы автору найти живое, своеобразное претворение классических традиций, помог бы приблизить это произведение к нашему слушателю.
Чувство неудовлетворенности оставляет и увертюра Ходжа-Эйнатова. Автор, повидимому, настолько увлечен в последнее время творчеством Рахманинова, что его собственный голос становится все менее и менее слышимым. Рахманиновские интонации и образы, а иногда и целиком темы заслоняют перед ним современный, окружающий его мир. И странно, что Ходжа-Эйнатов не понимает, что эти интонации и образы служили Рахманинову для выражения иных чувств и мыслей, чем чувства и мысли нашего времени. Наши композиторы, конечно, могут поучиться у Рахманинова мощной лирической напевности, динамическому развертыванию музыкальной ткани, претворению русской народной песенности, но это абсолютно не означает, что советский композитор может настолько подчинить себя музыкальному языку Рахманинова, чтобы потерять ощущение живых задач, стоящих перед всеми нами.
Ходжа-Эйнатову нужно решительнее опереться на родную ему народную армянскую музыку, к которой он то и дело обращается, но почему-то так же часто ей изменяет. В ней он найдет свое подлинное лицо и возможность обрести тот демократический музыкальный язык, к которому он, несомненно, стремится.
Особенно важным и острым для нас является вопрос о правдивом выражении образов советской действительности в нашем музыкальном творчестве. Ряд произведений, исполненных на пленуме, вызывает опасения, что некоторые композиторы недостаточно глубоко разрешают проблему достижения органичного единства современного содержания с его музыкальным воплощением.
Нужно приветствовать замысел композитора Чишко — создать ораториальное произведение на основе талантливейшей поэмы Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом», воспевающей передовых людей нашей послевоенной колхозной деревни.
Есть в этой оратории удачные, правдивые, выразительные эпизоды, в которых автор, используя элементы русской народной песни, творчески преображает их, вносит в них новое качество, идущее от правильного ощущения новой советской деревни. Там он достигает единства между содержанием поэмы и музыкальным языком.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 7
- Владимир Ильич Ленин 9
- Любимые музыкальные произведения В. И. Ленина 16
- Рабочий хор у гроба Ленина 27
- Второй пленум правления Союза советских композиторов СССР 29
- Творчество композиторов и музыковедов после Постановления ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» 31
- Выступления на пленуме 46
- Письмо участников пленума правления ССК СССР товарищу И.В. Сталину 65
- Русский народ, русские люди 67
- «Современничество» — оплот формализма 79
- В. В. Стасов — пламенный трибун русского искусства 87
- Воспоминания о В. В. Стасове 93
- Письма В. В. Стасова к А. Н. Молас 96
- Мои воспоминания о дирижерах 102
- Необходим решительный перелом! 108
- В Комиссии по руководству творчеством композиторов союзных республик 114
- В защиту советской скрипки 117
- Концертная жизнь 119



