стике. Как и чем помогала нам критика перестраивать наше искусство? Как она поддерживала, выявляла и формировала реалистическое направление в советской музыке? Как она боролась с проявлениями и тенденциями формализма? Как она учила, наставляла нас на образцах русской классической музыки? Иными словами, как выполнило советское музыкознание основные задачи, выдвинутые перед ним Постановлением Центрального Комитета нашей партии?
В Постановлении было сказано: «ЦК ВКП(б) констатирует совершенно нетерпимое состояние «советской музыкальной критики. Руководящее положение среди критиков занимают противники русской реалистической музыки, сторонники упадочной, формалистической музыки». И далее: «Музыкальная критика перестала выражать мнение советской общественности, мнение народа и превратилась в рупор отдельных композиторов».
Справедливо осудив тогдашнее состояние нашей музыкальной критики, Постановление ЦК ВКП(б) и речь товарища Жданова начертали перед советскими критиками широкую и увлекательную программу действий. Появились все основания для подлинного расцвета советской музыкальной критики, которой еще раз была ясно указана ее основная цель.
Казалось бы, что все советские музыковеды, независимо от того, являются ли они профессиональными критиками, или нет, должны были каждый по-своему участвовать в той перестройке музыкального искусства, которая развернулась в нашей стране.
Что же получилось на деле? — Критика отстала от требований народа. Если мы обратимся непосредственно к страницам нашей прессы, то увидим, что печать всего Советского Союза за прошедший год гораздо шире и полнее отразила отклики народа на Постановление ЦК и последовавшие за ним события, нежели критическая мысль наших специалистов-музыковедов. Когда было обнародовано Постановление, на него откликнулся весь советский народ. По всей нашей многонациональной стране артисты и художники, писатели и ученые, рабочие, врачи, инженеры горячо приветствовали Постановление Центрального Комитета, выражая свое душевное согласие с ним. Очень горячо откликнулась пресса и на выход сборника, посвященного совещанию музыкальных деятелей в ЦК ВКП(б). Замечательная речь товарища Жданова затронула умы и сердца всех, кто ее прочел.
Все эти горячие отклики советского народа, эта активность масс настоятельно требовали подлинной заинтересованности критики, ее активности, ее руководящего слова. Наши музыкальные критики должны были быть каменными, чтобы не загореться всеобщим вдохновением. К великому сожалению, мы вынуждены признать, что наша музыкальная критика не ответила на горячую заинтересованность советского народа подобающей ей активностью.
Еще слабо чувствуется повседневная роль музыкальной критики во внутренней жизни союза, в работе его творческих комиссий. Уровень критики невысок, суждения неглубоки, носят поверхностно-вкусовой характер или ограничиваются мелкими технологическими вопросами. Музыковедческая комиссия Союза композиторов не возглавила эту работу в целом и не поставила ни одной острой, актуальной проблемы, выдвинутой сегодняшней жизнью советской музыки.
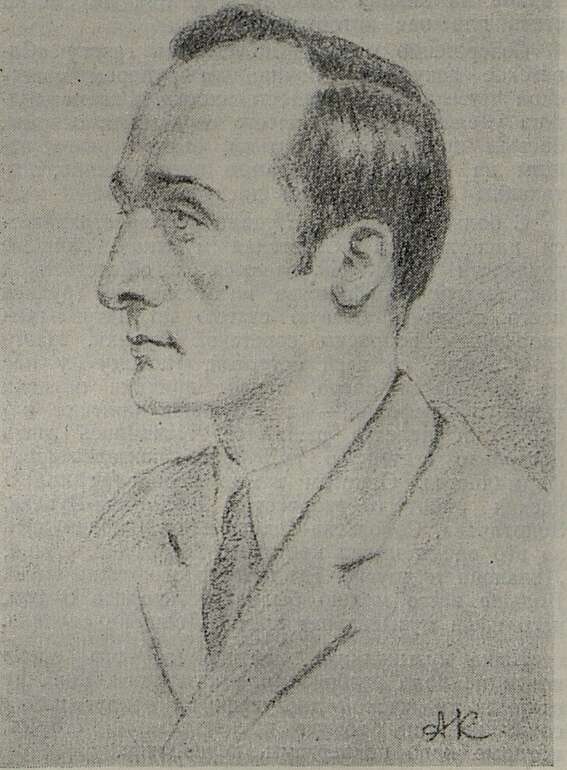
Ф. Амиров
Мы не можем считать работу Музыковедческой комиссии удовлетворительной, ибо она не выполняет задач, поставленных перед нами Центральным Комитетом партии.
Но, разумеется, главное внимание нужно обратить на музыкальную критику, как она представлена в нашей прессе. Очень мало места, от случая к случаю, уделяют музыкальной критике наши центральные газеты, за исключением, пожалуй, газеты «Культура и жизнь». А как раз веское, яркое, сильное слово о музыке, сказанное в «Правде», в «Известиях», остро необходимо нам в борьбе за прогрессивное реалистическое направление. Хорошо было бы, если бы эти газеты регулярно уделяли место проблемным критическим статьям о крупных явлениях советской музыки. Из рук вон плохо обстоит дело музыкальной критики в газете «Советское искусство». «Советское искусство» почти не помещает критических статей о советской музыке, ограничиваясь информацией, часто весьма неточной, стенограммами выступлений и т. д. Всего лишь один раз газета поместила статью о работе ССК, — «О
главном и второстепенном». Наш союз очень нуждается в серьезнейшей критике его работы. Однако газета не помогла нам. Не будучи основана на знании материала, статья не смогла стать для нас авторитетной.
Совершенно необходимо сделать газету «Советское искусство» подлинным рупором советской музыкальной общественности. Газета должна уделять основное место серьезным, острым, боевым критическим статьям, быстро реагирующим на новые музыкальные произведения, питающим дух творческой дискуссии.
С большим трудом, с усилиями перестраивается наш журнал «Советская музыка». Главные трудности здесь заключаются в общественной пассивности большинства музыковедов. Труднее всего получить боевую статью по актуальным творческим вопросам советской музыки. Написать прямо, со всей остротой, почему у нас не получается опера, в чем причина неудачи такой-то симфонии, — на это наши критики неохотно и нелегко решаются. Появилось лишь несколько статей о творчестве композиторов-формалистов. Отметим также появление критических работ о творчестве Васильева-Буглая, Золотарева, Соловьева-Седого и др. Выдвинулись за это время имена критиков: Апостолов, Саква, Ливанова и другие. Но всего этого очень мало. Больше всего можно было бы говорить о том, чего наша музыкальная критика еще не сделала.
Наша музыкальная критика за это время почти не дала разборов новых произведений, не открыла творческой дискуссии ни вокруг новых сочинений, ни вокруг показательных старых, которые надо подвергнуть переоценке.
Наша критика очень мало еще учит нас на образцах русских музыкальных критиков-классиков, мало использует их статьи, разбирая творчество советских композиторов.
Наша критика мало и редко разоблачает растленное буржуазное искусство, плохо борется с ним. Иными словами, наша критика не может еще быть названа партийной, потому что она не целеустремлена так, как этого прямо требует от нее Постановление ЦК.
Товарищ Жданов призывал нас ориентироваться на великих классиков русской музыкальной критики, на Серова и Стасова, на их горячее, острое чувство ко всему передовому и новому в современной им жизни. Это было почти год тому назад. Сейчас мы пришли к такому важному событию в жизни Союза композиторов, как нынешний пленум. Мы пришли с музыкальными произведениями, созданными после Постановления. Однако наши критики не дали нам ответственных статей о том, как складывается наше реалистическое направление, какие у него черты, какие трудности, какие перспективы. Нет и обобщающей статьи о том, как перестраиваются композиторы-формалисты. А такого ответа давно ждет от прессы весь наш народ.
Мало, трудно пишут наши музыковеды о советской музыке! Наука живет у нас не в ладах с публицистикой. Повидимому, многие советские музыковеды, так же как и некоторые композиторы, не владеют демократическими жанрами, разучились говорить с народом. Этому должен быть положен конец. Члены Союза советских композиторов должны повернуться лицом к народу, лицом к советской музыке.
Конечно, у нашей музыкальной критики есть и свои трудности, которых никто не собирается отрицать. У нее мало места в прессе, особенно в газетной, которая должна быть наиболее подвижной, злободневной, живой по своим критическим откликам. Именно газеты могли бы сделать подвижнее наших критиков, которые слишком приучаются к «неторопливой поступи» журнала и даже ухитряются отставать от него.
Огромные трудности музыкальной критики связаны с трудностями и ошибками науки и музыкального образования. Наивно было бы полагать, что несовершенства и пороки критического метода существуют только сами по себе. Нет, они прямо связаны со многими формалистическими ошибками в методе анализа музыкальных произведений, со школой анализа, с консерваторскими курсами. И когда в прежние годы журнал «Советская музыка» пестрел скучными, никому не нужными формалистическими статьями-разборами, это не было только признаком данных критических статей, — это зависело от господствовавшей у нас и далеко еще не преодоленной системы анализа музыкальных произведении. До сих пор наши критики не могут выбиться из этой системы. Они то начисто обходят аналитические приемы, то применяют их очень поверхностно, то попадают в плен формализма. Нужна большая свобода и широта критических жанров, если можно так сказать. Здесь допустимы и желательны и глубокие очерки-разборы, и обобщающие статьи по эстетическим вопросам, и этюды о творческом пути композиторов, и постановка любых интересных сквозных тем советской музыки.
К сожалению, нашу музыковедческую молодежь до сих пор не готовили к этой области работы. Оттого так слабо пополняются ряды музыкальных критиков. Студенты-музыковеды, кончающие, например, Московскую консерваторию, умеют, так сказать, хирургически анатомировать музыкальное произведение, но не умеют его оценивать. Оттого им трудно стать критиками. Им не хватает идейно-теоретической основы и горячего ощущения пульса нашей жизни.
Мы организовали в этом году в ССК нечто вроде «приготовительного класса» критиков — секцию молодых музыковедов, и мы надеемся, что она даст хорошее пополнение, обновив наши критические силы новыми, свежими кадрами.
Какова же та общая оценка, которую мы можем дать нашей музыкальной критике за прошедший период?
Было бы неверно отрицать появившиеся ростки здоровой критической мысли, нашедшие свое место в ряде статей обновленного журнала «Советская музыка». Однако наша музыкальная критика по-прежнему отстает от процессов развития творчества, не является деятельной помощницей композиторов в ответственный период их творческой перестройки. Это положение не может быть далее терпимо, и мы должны принять все меры для того, чтобы преодолеть этот отрыв критической мысли от живой творческой практики.
Таким образом, подводя общий итог музыкальному творчеству за период времени, прошед-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 7
- Владимир Ильич Ленин 9
- Любимые музыкальные произведения В. И. Ленина 16
- Рабочий хор у гроба Ленина 27
- Второй пленум правления Союза советских композиторов СССР 29
- Творчество композиторов и музыковедов после Постановления ЦК ВКП(б) об опере «Великая дружба» 31
- Выступления на пленуме 46
- Письмо участников пленума правления ССК СССР товарищу И.В. Сталину 65
- Русский народ, русские люди 67
- «Современничество» — оплот формализма 79
- В. В. Стасов — пламенный трибун русского искусства 87
- Воспоминания о В. В. Стасове 93
- Письма В. В. Стасова к А. Н. Молас 96
- Мои воспоминания о дирижерах 102
- Необходим решительный перелом! 108
- В Комиссии по руководству творчеством композиторов союзных республик 114
- В защиту советской скрипки 117
- Концертная жизнь 119



