уверен в своих силах, еще боится эстрады. Но в игре его уже есть что-то такое, что увлекает слушателей. Концерт проходит с успехом.
Казалось бы, дальнейший путь Рихтера ясен: он продолжает усиленно заниматься на фортепиано, часто выступает на домашних вечерах, на одном из которых даже исполняет сонату h-moll Листа. Но и в это время он еще не думает серьезно о карьере пианиста. Он мечтает о другом — стать дирижером. Его работа в Одесском Оперном театре, куда он поступает сперва в качестве концертмейстера балета, а затем (с 1934 г.) концертмейстера оперы, укрепляет его в этом стремлении. Все помыслы его направлены к широкой просветительской деятельности, и дирижирование представляется ему лучшим средством для осуществления этого призвания. Но какой-то случай мешает его дирижерскому дебюту в Одесской опере. И только тогда, неудовлетворенный работой в театре, он решает ехать в Москву, и уже на этот раз с твердым желанием стать пианистом.
Он поступает (в 1937 г.) в Московскую консерваторию в класс проф. Г. Г. Нейгауза. Начинаются годы систематических занятий. Нейгауз сразу же почувствовал в Рихтере самобытное художественное и пианистическое дарование и дал мощный толчок к развитию его лучших качеств.
Уже отдельные студенческие выступления Рихтера (с фантазией C-dur Шуберта, сонатой h-moll Листа и, особенно, с прелюдиями Дебюсси) показали, что в его лице растет пианист необычайного размаха и возможностей. Это подтверждалось и его деятельностью в творческом студенческом кружке, где он был душой и организатором. На собраниях кружка им было исполнено множество оперных и симфонических произведений (частью по клавирам, частью по партитурам, иногда с небольшой предварительной подготовкой, а иногда и с листа), причем исполнено превосходно. Однако и тогда лишь немногие, и прежде всего его учитель, догадывались о полном объеме и богатстве его дарования.
Такова предистория того бурного артистического роста, который вскоре выдвинул Рихтера в первую шеренгу советских исполнителей. Своеобразие этого пути не могло не отразиться на характерных особенностях пианизма Рихтера. То, что он долгие годы воспитывал себя на оперной и симфонической литературе, несомненно способствовало размаху, поэтической программности, оркестральной мощи и красочности его игры. То, что он играл с листа самые разнообразные произведения, развило в нем необыкновенное умение быстро преодолевать любые пианистические трудности, почти мгновенно приспосабливая их к своим возможностям. Но, с другой стороны, это же способствовало тому, что далеко не все у него, особенно в первые годы концертной деятельности, было до конца отточено, отшлифовано с пианистической стороны; звучания подчас бывали резкими, несколько форсированными. Наконец, это же юношеское увлечение оперной и симфонической музыкой, обратной стороной которого явилось некоторое пренебрежение фортепианной литературой, заставило его в последующие годы отдавать чрезвычайно много сил созданию пианистического репертуара.
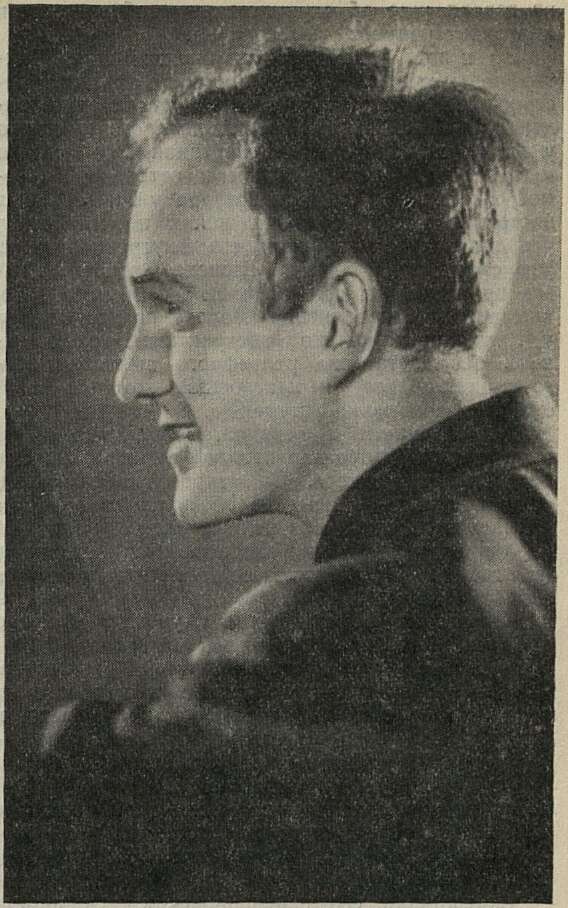
С. Рихтер
Рихтер сам признавался, что по-настоящему и всерьез он начал заниматься, как пианист, лишь с 1942 года. С этого времени он действительно отдал себя пианистическому искусству. Концерты его следовали один за другим, как из рога изобилия. И что ни концерт, то новая программа. При чем концерты эти были для него не только ступеньками к общему признанию и славе, но и суровой школой. Почти каждый из них был связан с исканиями, размышлениями, сомнениями и почти каждый, в конечном счете, вызывал у него какое-то чувство неудовлетворенности.
В конце 1945 года на Всесоюзном конкурсе музыкантов Рихтеру была присуждена первая премия.
Несомненно, чтобы осуществить свое призвание и сделать все то, что сумел сделать Рихтер в столь короткое время, надо было обладать способностями выдающимися, всесторонними, надо было свободно располагать «ценнейшими дарами природы».
В самом деле, у Рихтера есть чувство и мысль, вдохновение и расчет, властная сила и нежность,
не говоря уже об огромном масштабе, смелости и разносторонности его техники.
Но и при таком всеобъемлющем даре Рихтер не мог избежать последствий слишком быстрого освоения различных по стилю произведений. Далеко не все из исполненного получало у него индивидуальные очертания, не каждая мысль соединялась с ясной и отточенной формой выражения. Рост репертуара у Рихтера был настолько стремителен и велик по масштабу, что он подчас опережал его внутренний рост. Это сказывалось даже в Шопене, которого Рихтер причисляет к своим самым любимым и близким авторам: исполнение Шопена подчас бывало у Рихтера несколько абстрактным, схематичным, без достаточно рельефного выявления того круга образов и настроений, который свойственен данному произведению.
Но трудности и неудачи, встречавшиеся на пути к достижению характерной выразительности, не смущали Рихтера. Он откровенно сознается: «Неудача никогда меня не обескураживает. Я не бросаю вещь, если она не получилась у меня на концерте так, как мне хотелось; я продолжаю работать над нею и играю ее до тех пор, пока она не получится».
Иногда на это у Рихтера уходит немного времени. Так было, например, с фантазией Шуберта и с патетической сонатой Бетховена. Иногда же эта работа растягивается у него на годы (как, например, работа над прелюдиями и фугами Баха). В сущности путь Рихтера — это сложный, тернистый путь овладения «ключами» к различным стилям и жанрам фортепианной литературы. И если в первые годы широкого концертирования Рихтер не мог еще отрешиться от определенного «амплуа», то впоследствии он почти полностью преодолел эту невольную замкнутость.
Способность его перевоплощаться и проникаться чужой жизнью — жизнью исполняемых произведений — поистине поразительна. Вспомним, например, его исполнение сонаты «Аппассионаты» Бетховена, фантазии C-dur, сонат D-dur (op. 53), G-dur (op. 78) и экспромтов Шуберта, «Симфонических этюдов» и концерта Шумана, трех забытых вальсов и цикла «Венеция и Неаполь» Листа, прелюдий Дебюсси. Исполнение этих произведений несомненно принадлежит к числу высоких достижений пианистического искусства.
Вспомним также его обаятельное исполнение «Баркароллы» Шопена, где поэтическое благородство и целомудрие переплетаются с особой пластической красотой игры, или его исполнение cis-moll'нoгo скерцо, в котором все словно устремлено ввысь, согрето одним порывом, слито в одно целое. Вспомним, наконец, его захватывающую интерпретацию сонаты и b-moll’ного концерта Чайковского, произведений Рахманинова (Прелюдии, «Этюды-картины» и др.) и Прокофьева (1-й концерт и др.). Он как бы создает эти произведения заново, и его творческое горение с избытком передается слушателям.
Все это, повторяю, далось Рихтеру не сразу и не легко. Также нелегок был его путь к полному выявлению и утверждению своей индивидуальности. Вначале ему было трудно не только уходить от себя в образы исполняемых произведений, но и раскрыть полностью самого себя на эстраде. Теперь же Рихтер достиг такой свободы в выявлении своего «я», такой легкости в преодолении технических трудностей, что опрокинул многие из наших привычных представлений о возможном и достижимом. Его дерзновения и блистательная виртуозность заставляют вспомнить о самых больших пианистах прошлого и настоящего.
Но трудно сказать, чему надо больше удивляться, — этой ли искрометной виртуозности, или силе и глубине его творческого интеллекта. Когда он играет, слушатель ощущает музыку, как нечто живое и органическое, начинает воспринимать то, что для него до тех пор было подчас скрытым, замечает подробности там, где всегда видел лишь сплошную массу. Рихтер словно помогает слушателю заглянуть в самую глубь музыки, пробуждает в нем разнообразные мысли и чувства, обогащает его сознание.
Музыкальные образы в исполнении Рихтера убеждают даже тогда, когда они кажутся не совсем обычными и оправданными (например, «Мефисто-вальс» или соната h-moll Листа). Они настолько сильны, настолько ярко очерчены, что заставляют признать себя даже несогласного с ними слушателя, как бы внедряются в его чувства и ум. И что примечательно: в этой необычности исполнительских образов Рихтера нет ни грана ухищрений, ничего искусственного, вычурного и напыщенного. Рихтер не умничает, не копается, не выдумывает; он идет к произведению прямо, не мудрствуя лукаво. И эта простота и определенность его художественных намерений, глубокое, свободное от предвзятости постижение музыкального искусства сообщают его исполнению удивительную ясность и цельность.
Часто кажется, что все в игре Рихтера непреднамеренно, что он рассыпает щедрой рукой свои богатства, как попало; но так кажется только на первый взгляд. При более внимательном рассмотрении оказывается, что многие элементы его искусства, порожденные стихией, развертываются согласно какому-то скрытому плану. Они имеют свое определенное назначение, свой особый выразительный смысл.
Но все же у Рихтера еще нет полного равновесия между стихийным, непроизвольным чувством, охватывающим его в минуты вдохновения, и сознательным ограничением себя, необходимым для гармонически стройного воплощения замысла. Порой «энтузиазм» артиста преобладает у него над «мудростью» художника, и некоторые элементы художественного целого выпадают из последовательно развертывающегося единого действия.
В самом существе дарования Рихтера скрыт такой избыток жизни, заключена такая стихийная сила, что она не может пока что не переливаться через кран. Пусть моментами мы встретим у Рихтера несколько утрированное понимание темпа и звучности; пусть иногда в исполнении его не все одинаково ровно и совершенно. Зато в нем,— если исключить немногие минуты артистической усталости и отсутствия настроения, — нет ничего натянутого, тусклого, монотонного. Исполнение его почти всегда красочно, насыщено бурной, неисчерпаемой энергией, непринужденностью и свежестью художественного чувства; оно никогда не пресыщает.
С неизменной настойчивостью Рихтер стремится ко многому и разнообразному. Не случайно он говорит о себе: «Я существо «всеядное», и мне
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 5
- За советскую музыкальную классику! 7
- О народности русской классической музыки 10
- В плену у буржуазного модернизма 20
- Опера о советской молодежи 28
- Творческий путь М. И. Красева 34
- Шаляпин 40
- Распад гармонии в музыке модернизма 46
- Святослав Рихтер 54
- «Проданная невеста» Б. Сметаны на московской сцене 58
- Новые граммофонные пластинки 65
- Концертная жизнь 67
- По страницам печати 75
- Хроника 80
- В несколько строк 89
- Узеир Гаджибеков 91
- А. И. Орлов 93
- Музыкальная жизнь в Албании 95
- Русская опера в послевоенной Германии 1945-1948 гг. 99
- Нотография и библиография 105
- Комсомольская песня из оперы «Молодая гвардия» 109
- Стояла я и слушала весну 113
- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1948 год 116



