...Глубокие застывшие аккорды fis-moll’я... Постепенно, словно откуда-то из глубины, возникает в оркестре тонический септаккорд. Навстречу ему мягко скользит цепь параллельных септаккордов.
Далеко раскинулась уральская степь... Темносинее ночное небо нависло над широкими просторами. Тихо катит свои волны Урал-река.
Но в тишине ночи затаено беспокойство. Где-то в отдалении слышны заглушенные сигналы. Сигнальный мотив разрастается в полную тревоги мелодию. Затем снова спокойный fis-moll. Вдали слышен наигрыш гобоя, имитирующий башкирский курай. Вступает хор. Он повторяет и развивает музыку оркестрового вступления. Спокойная, узорчатая полифония, типичные для хора-ноктюрна мягкие гармонические последовательности; наигрыш вступления теперь поручен высокому женскому голосу. Это еще рельефнее создает ощущение степного простора. Голос уносится вдаль, перекликаясь с гобоем...
Внезапно, как буйный порыв ветра, врывается в ночную тишину напористая, тревожная мелодия. Она пронеслась... и снова наигрыш песни возвращает нас к образу бескрайной степи, снова проходит мелодия хора-ноктюрна:
Звезды шопотом осенним
Тянут хором нить,
Ночь привыкла на Узени
Тайны хоронить...
Таков первый эпизод оратории, рисующий картину «степной ночи на Узени» — места, где зародилось одно из великих крестьянских движений крепостной России.
Во втором эпизоде (песня Устиньи) мы впервые знакомимся с могучим обликом будущего вожака восстания.
В стремительном, тяжелом конском топоте рождается образ могучего всадника. Так во многих русских былинах образ легендарного богатыря, защитника русского народа, неразрывно связывается с его верным, боевым конем, стальным кованным мечом.
В сочетании с остро ритмизованным «скачущим» сопровождением, звучит мощный, эпического склада распев Устиньи. В средней части песни дается большое нарастание, приводящее в репризе — к мелодической кульминации большой силы:
Вот он какой,
Этот конь вороной,
Конь Емельяна Ивановича!
Третий эпизод — хор a capella «Ой, земля, земелюшка». Это — обобщенный образ крестьянина, векового страдальца русской земли. Хор повествует о великой крестьянской любви к родной земле, о вековых страданиях русского крестьянства. Коваль стремится усилить, драматизировать мелос русской протяжной крестьянской песни. Так, в плавную мелодическую линию песни вплетаются взволнованные интонации вопроса (см. прим. 1).
Так, в кульминации песни, после слов «помоги, Емелюшка» композитор, не ограничиваясь словесным текстом, стремится использовать глубоко эмоциональные приемы хоровой звукописи; это — три короткие мелодические волны, как бы воспроизводящие стон, народное причитание (см. прим. 2).
Прим. 1
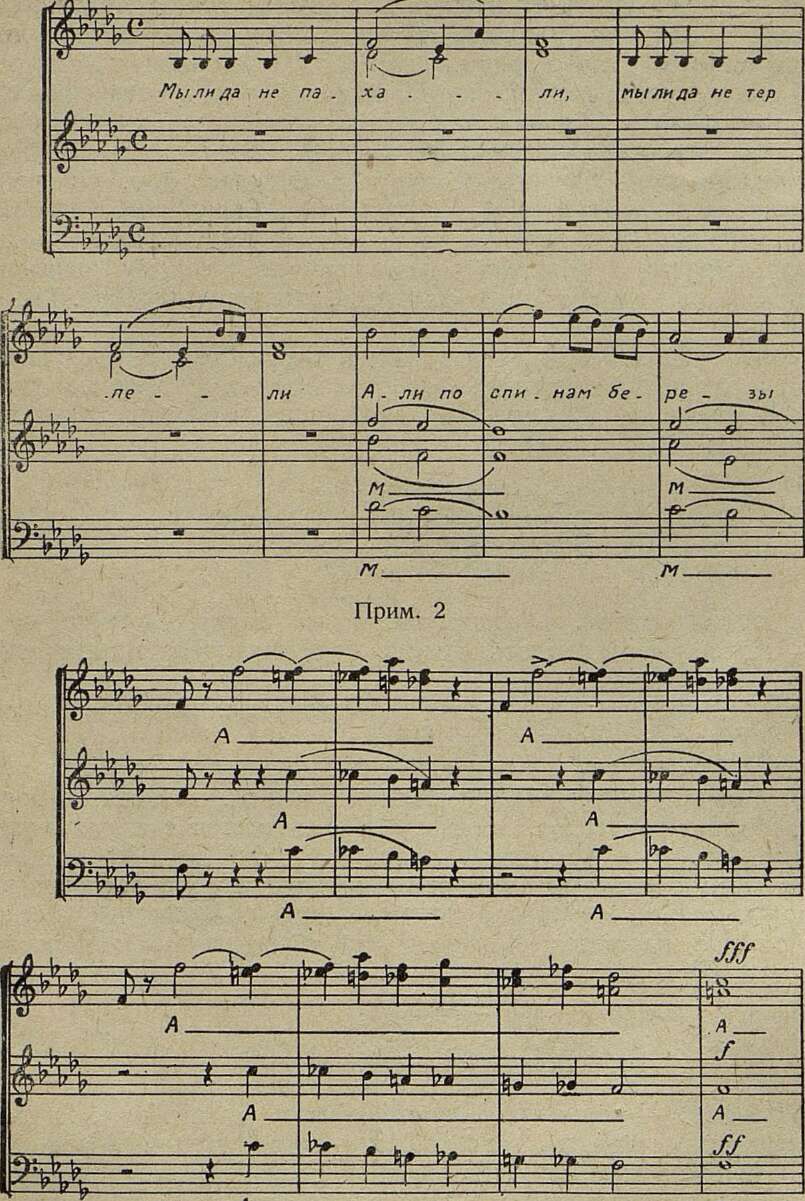
Подобные хоровые приемы заставляют вспомнить лучшие страницы хоровых партитур Мусоргского (кульминация хора стрелецких жен в III действии «Хованщины», с ее упрямыми, щемящими секундами, «плачущим» хроматическим спуском). Дойдя до кульминационного звучания, хор как бы «срывается».... Некому еще объединить, направить могучую народную энергию... И снова в репризе проходит сурово-печальная мелодия подневольного крестьянского плача:
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 2
- Советские композиторы и Красная армия 7
- Из походного дневника 12
- Моя поездка с Красной армией 14
- На фронте в 1918 году 16
- Либретто советской оперы 20
- О «Емельяне Пугачеве» М. Коваля 26
- Монолог Пугачева — «Слушайте, нищие!..» 43
- «Лауренсия» — балет А. Крейна 49
- Музыкальная эстетика Шумана 56
- Моя работа над оперой «Лейли и Меджнун» 67
- Узбекская опера «Буран» 69
- Письмо из Тбилиси 80
- Песни Джаббара Карягды 86
- О музыке якутов 90
- Музыкальная жизнь за рубежом 98
- Вновь найденная рукопись Бетховена 100
- О музыкальной библиографии 101
- О репертуаре столичных гастролеров 102



