Прим. 3
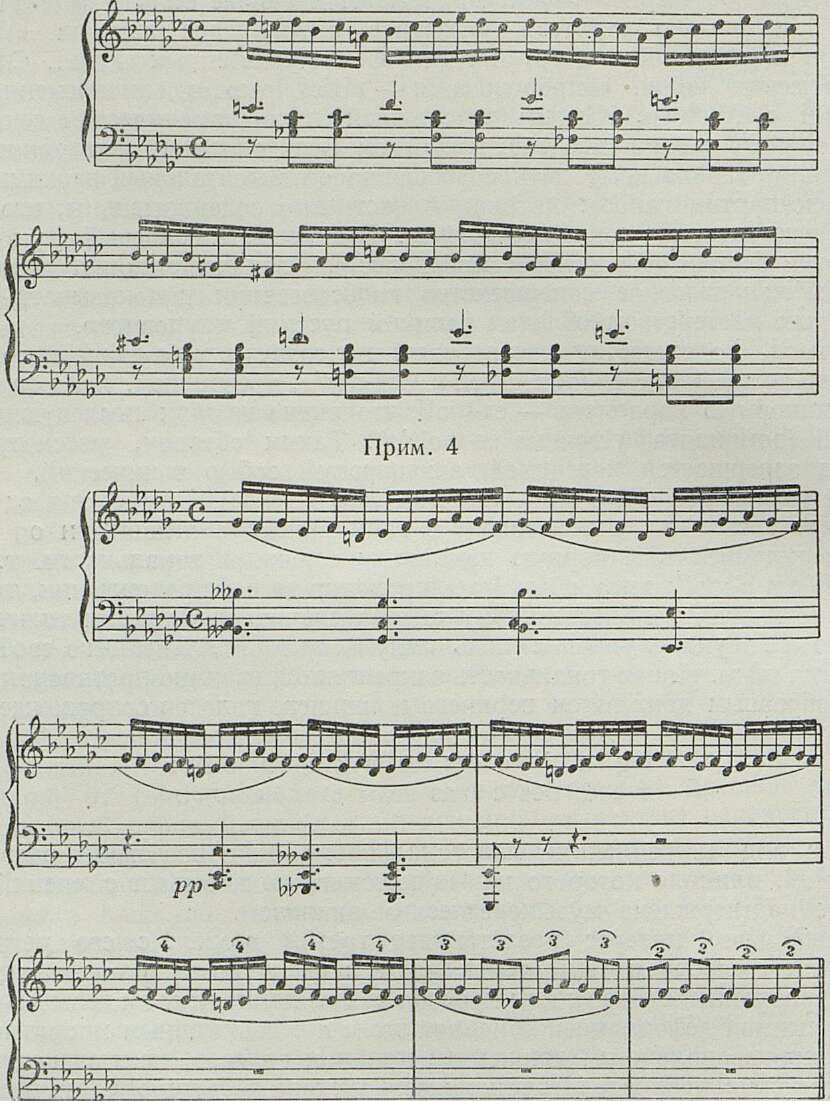
сопровождения) в данном случае означает переход к начальному эпизоду, т. е. к суровому изложению «Dies irae». В нотном примере отмечены фигуры, представляющие все ту же «роковую» тему. Благодаря одноголосному изложению, прежняя ладовая окраска созвучий уменьшенного лада предается забвению и орнаментальная фигура узкого диапазона естественно «вливается» в es-moll последнего раздела.
Четвертый раздел не содержит новых элементов: он служит завершающим симметрию построением и возвращает слушателя к первоначальному образу суровой, мрачной обреченности. Досадное впечатление остается лишь от шумливой фигуры фортепианного отыгрыша, с его мрачной бравурой изложения. Во всем остальном «Новогреческая песня» являет собой пример полного, всестороннего художественного совершенства, — начи-
ная от тематического единства и широкого развертывания сюжета и кончая массой деталей, обнаруживающих глубокую тщательность и обоснованность каждого приема в его связи с идейным содержанием, почти всегда выходящим у Чайковского за пределы поэтического текста. Впрочем, текст выражен и дополнен музыкой настолько превосходною, что даже Кюи, при всем своем недоброжелательстве к Чайковскому, вынужден был признать «Песню» вполне безукоризненным произведением.
Гениальное проникновение в самую сущность художественного образа подсказало Чайковскому идею сопоставления «Dies irae» с «Weinen, Klagen». Как всегда, тема рока дана в ее диалектическом единстве с темой человека, его страданий.
Вариационный принцип, примененный в «Новогреческой песне», отнюдь не мешает назвать ее балладой (вспомним балладу Томского из «Пиковой дамы» и фортепианную балладу Грига). Миф об адских муках в подземном царстве в соединении с фатальной средневековой секвенцией и с хоралом «Слезы, жалобы» образуют нечто художественно цельное и в высшей степени объективное. Возвыситься до такого величественного объективизма в передаче человеческих страданий мог только гениальный художник. Ибо правильно понятый объективизм служит залогом жизненности произведения искусства. Он много труднее самых блестящих фантазий, самого смелого воображения.
О засни, мое сердце, глубоко!
Не буди, не пробудишь, что было,
Не зови, что умчалось далеко,
Не люби, что ты прежде любило.
Пусть надеждой и лживой мечтой
Не смутится твой сон и покой.
Для тебя невозвратно былое,
На грядущее нет упованья,
Ты не знало в блаженстве покоя,
Успокойся ж на ложе страданья.
И старайся не помнить зимой,
Как срывало ты розы весной!
О засни, мое сердце, глубоко!
Не буди, не пробудишь, что было,
Не зови, что умчалось далеко,
Не люби, что ты прежде любило.
Пусть надеждой и лживой мечтой
Не смутится твой сон и покой!
И старайся не помнить зимой,
Что срывало ты розы весной!
Романс «Примирение» — на слова Н. Щербины, ор. 25, № 1 (1875; g-moll) — представляет большой интерес как по жанру, так и по форме, обогащающей романсовое творчество Чайковского новым принципом объединения частей.
Текст Н. Щербины полон меланхолии и продиктован чувством безысходности, глубокого разочарования, сознанием усталости, стремлением к покою, забвенью.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Алмаст» — А. Спендиарова 9
- Воспоминания об А. А. Спендиарове 17
- Воспоминания об А. А. Спендиарове 19
- Воспоминания об А. А. Спендиарове 22
- Арам Хачатурян 24
- Богатырский эпос армянского народа— «Давид Сасунский» 46
- Фрагменты из эпоса «Давид Сасунский» 55
- Деятели армянской музыкальной культуры 61
- Отрывок из неизданного квартета Комитаса 68
- Музыка Белорусской республики 69
- Белорусская опера 72
- Музыка в жизни и творчестве Лермонтова 92
- Романс «Соседка» 104
- Романсы Чайковского. Очерк первый. Романсы 1869–1875 гг. 109
- «И жизнь хороша, и жить хорошо…» 132
- Ансамбли песни, музыки и танца народов РСФСР 135
- Азербайджан 137
- Узбекистан 139
- Казахстан 141
- Киргизия 143
- Над чем работают советские композиторы 145
- Конкурс на оборонную песню 146
- Лермонтов в советской музыке 147
- «Песня про купца Калашникова» 147
- Новые издания 148
- Новинки Библиотеки Московского Союза советских композиторов 149
- Хроника 150
- Е. М. Браудо 152



