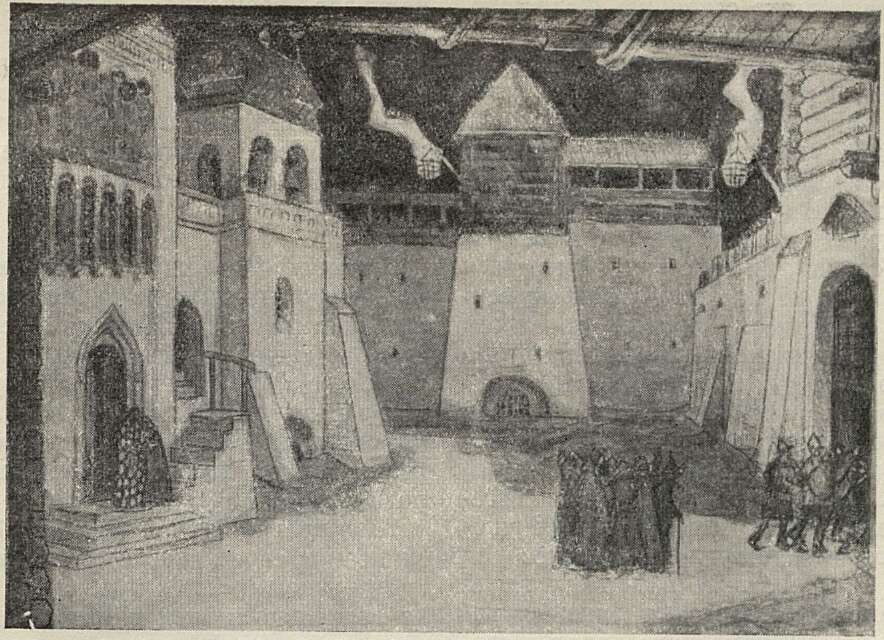
Эскиз декорации к первой постановке «Сказания о невидимом граде Китеже» работы А. Васнецова (Мариинский театр, 1907 г.) Гос. музей им. А. Бахрушина
Нельзя не обратить внимания и на некоторые авторские указания, предпосланные последней картине оперы, в том числе указание на то, что народ одет «в белые мирские одежды».
Во имя чего в народной легенде происходит сокрытие, исчезновение града Китежа? Не для того, чтобы китежане обрели «вечную радость и покой» на небе, в раю, в загробной жизни, а для того, чтобы спасти Китеж (а шире — Родину) от вражеского нашествия.
Так в «Сказании» на первый план выдвигается патриотическая идея, идея защиты Родины от иноземного нашествия. Именно поэтому кульминацией оперы, ее музыкально-драматургической вершиной оказалась симфоническая картина «Сеча при Керженце» — одно из гениальных воплощений в русской музыке темы патриотического подвига народа.
В образах Февронии и Всеволода олицетворены высокие моральные качества русского народа. Феврония — женщина беспредельной чистоты сердца и благородства души. Не убоясь смертных мук, она отказалась указать татарам путь к великому Китежу. Всеволод со своей дружиной с оружием в руках выступает против врагов и гибнет в неравном бою, предпочтя геройскую смерть постыдной неволе.
Героически ведет себя в «Сказании» и русский народ. Измышления декадентской критики о якобы «пассивности», «непротивленчестве» китежан, с молитвой ожидающих своей смерти, ни на чем не основаны. Ведь в начале третьего акта (в великом Китеже) есть немаловажная авторская ремарка: «Весь народ от старого до малого с оружием в руках собрался за оградой Успенского собора». И потому для Февронии и Всеволода с его дружиной, для ослепленного Поярка, для молившегося о спасении народа престарелого князя Юрия, для самого народа открыты врата невидимого града Китежа, а для изменника и предателя Гришки Кутерьмы они закрыты.
Здесь мы подходим к самому сложному образу «Сказания» — к образу Гришки Кутерьмы. Замученный нищетой и бедностью, погрязший в беспробудном пьянстве, Гришка становится слепым орудием в руках китежанской знати, бояр. Именно они подкупают Гришку, опаивают его и
заставляют жестоко оскорбить Февронию, ставшую невестой княжича Всеволода.
Гришка Кутерьма предает Родину, он оказывается единственным из всех китежан, кто согласился указать татарам путь к родному городу. «Мук боюсь» — вот с какими словами решается он на тяжкое преступление. В труднейшую минуту жизни обнаружил Гришка, что нет в нем ни души, ни сердца, ни совести. И опереться оказалось ему не на что — страх пересилил, хоть и понимал Гришка, что за это ему «век проклятым быть», что память о нем вечно «со Иудой за одно пойдет».
После этого он не остановился и перед новым преступлением: всем велел говорить, что не он, Гришка, а Феврония повела рать татарскую к великому Китежу. И в тот же час, как завершил Гришка цепь своих преступлений, понес он жестокое наказание: не выдержал тяжести своего предательства и лишился разума. Так осудил изменника народ в своем предании, и это справедливое возмездие воплощено в «Сказании» с потрясающей художественной силой.
Но вот Феврония простила Гришке его тяжкие грехи. Простила и то, что он глумился над ней и над ее чистой любовью, и то, что повел он татар на Китеж, и то, что на нее, Фавронию, переложил он свое предательство. Письмо Февронии Кутерьме из невидимого града Китежа не было для Римского-Корсакова проходящей деталью: «Письмо Февронии есть кульминационный момент всего ее образа. Достигшая блаженства Феврония вспоминает о своем лютом враге и губителе Великого Китежа»1. И тем не менее придется признать, что Римский-Корсаков здесь оступился, сделал неверный шаг, очевидно, поддавшись влиянию В. Бельского, авторитет которого, как талантливого либреттиста, был очень высок в глазах Римского-Корсакова, несмотря на постепенное обострение их идейно-творческих разногласий.
Как это ни парадоксально, Римский-Корсаков оказался здесь в плену того самого толстовского реакционного непротивленчества, против которого, как известно, он сам же резко восставал.
Народ чувствовал и понимал, что оправдать Гришку — нельзя: ни в одном из народных преданий Гришка не получает прощения; врата невидимого града Китежа должны остаться для него закрытыми2. И конечно же, письмо к Кутерьме вносит в образ Февронии момент, решительно противоречащий высокой народной морали, и тем самым снижает его жизненную правдивость.
* * *
Римскому-Корсакову были чужды религиозно-мистические воззрения. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» рождено исключительно любовью Римского-Корсакова к русскому народному творчеству, к отраженной в народной поэзии внешне обрядовой стороне древних религиозных воззрений русского народа.
18 апреля 1894 года В. Ястребцев записал в своем дневнике слова Римского-Корсакова: «...как художник, я искренне восхищаюсь всей обрядовой, так сказать, «языческой» стороной религии: я, например, глубоко люблю ее в других и положительно усматриваю красоту и в постах, и в крестных ходах, и в похоронных тризнах с блинами, хотя, повторяю, сам лично ни в процессиях принимать участия не стану, ни поминальных блинов есть не буду». Позднее, вскоре после окончания «Сказания», в письме к В. Стасову Римский-Корсаков писал: «А как хорошо, что нет будущей загробной жизни (я верю в то, что ее нету)»3.
Мы видим, какая непроходимая стена стоит между идейно-художественными воззрениями Римского-Корсакова и современными ему реакционно-мистическими философскими течениями. Такая же непроходимая стена отделяет и Римского-Корсакова от позднего Вагнера, а «Сказание» — от «Парсифаля».
Глубоко прав был Б. Асафьев, говоря, что «Парсифаль» «должен был быть невероятно чужд Р.-Корсакову»4, ибо не только по идейной концепции, но и по музыке, по творческим принципам «Сказание» бесконечно далеко от «Парсифаля».
Концепция «Парсифаля» основана на реакционной идее искупления земной гре-
_________
1 Письмо к В. Суку от 29 января 1908 г.
2 Даже татары с презрением относятся к перебежчику. «Тебе с плеч голову отрубим: не изменяй родному князю», — говорят они Гришке.
3 «Русская мысль», 1910, кн. VI — IX.
4 Игорь Глебов (Б. Асафьев). Симфонические этюды. П., 1922, стр. 129.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Искоренять недостатки в работе Союза композиторов 7
- Творчество молодых 11
- Опера для юношества 15
- Путь В. Щербачева 21
- О музыкальном образе 31
- Заметки о новаторстве 39
- К дискуссии по вопросам музыкальной эстетики 48
- Римский-Корсаков и модернизм 53
- Всесторонне изучать зарубежную классику 70
- Черты нового 74
- Ответ хору молодых строителей города Воронежа 78
- Пути развития китайской оперы 79
- Прошлое и настоящее английской музыки 87
- Румынский народный оркестр 92
- Советская музыка во Франции и Бельгии 95
- Газета Кировского театра 96
- По страницам газет 97
- Музыка в Карело-Финской ССР 100
- Праздник песни в Гродно 102
- Юбилей дирижера 102
- Рабочая хоровая капелла 102
- К итогам сезона 103
- Заметки о легкой музыке 106
- Эмиль Гилельс 108
- Борис Гмыря 109
- Выступление И. Козловского 110
- Надежда Казанцева 110
- Вера Фирсова 111
- Хроника концертной жизни 112
- Летопись жизни и творчества Глинки 114
- Чайковский в Праге 117
- Гоголь и музыка 118
- Польская книга о Монюшко 118
- Справочник о советских композиторах 120
- «Русские транскрипции» Ф. Листа 121
- Второй квартет Е. Голубева 122
- Романсы советских композиторов 122
- О рецензиях на симфонические концерты 123
- Вопросы исполнительства 123
- Больше внимания советскому балету 124
- Наш помощник 124
- Журнал должен быть общедоступным 125
- О детской песне 126
- Помочь Кемеровскому музыкальному училищу 126
- Музыкальная шкатулка 127
- Дружеские шаржи 130
- Обсуждение журнала «Советская музыка» 132
- В Секретариате Союза композиторов 133
- В творческих комиссиях Союза композиторов 133
- Книга «О мелодии» 133
- Вечер памяти Брамса 134
- В музыкальной секции ВОКС 134
- «С художника спросится» 135
- «О воспитании молодых музыковедов» 135



