Свою глубокую преданность оперным заветам гениального творца «Руслана» Бородин выразил и посвящением «Игоря» памяти М. И. Глинки. Когда сестра Глинки Л. И. Шестакова преподнесла Бородину экземпляр партитуры «Руслана и Людмилы», он благоговейно ответил: «Да будет она евангелием всем русским композиторам» (выпуск III, стр. 54).
Приход Бородина в Могучую кучку ознаменовался расцветом его богатых творческих сил. Сближение с Балакиревым и другими членами кружка, который Бородин любовно именует «нашей музыкальной семьей», упрочило его идейно-реалистические позиции, вдохновляя на создание патриотических произведений.
Вся кипучая, многообразная деятельность Бородина одухотворена истинной любовью к Родине, к народу, постоянной заботой о развитии отечественной науки, культуры, искусства.
Скромный, простой, высокогуманный русский человек — ученый, художник, передовой общественно-музыкальный деятель — таким предстает А. Бородин и в своих замечательных письмах. В них отражена и сердечная любовь Бородина к величавой русской природе. «Забрался в Костромскую губернию, Кинешемский уезд, в 8-ми верстах от Кинешмы, — пишет он Стасову 23 июня 1880 года, — поселился на высокой, крутой горе, у подножия которой раскинулась чудовищным змеем Волга; верст на 30 раскинулась перед моими глазами своим прихотливым плесом, с грядами да перекатами, зелеными берегами, крутогорьями, луговинами, лесами, деревнями, церквами, усадьбами, бесконечною, дальнею синевою. Вид — просто не спускал бы глаз с него! Чудо что такое!» В другом месте он описывает свои занятия «посильными сельскохозяйственными работами», доставлявшими ему искреннюю радость: «Ворошу и убираю сено, помогаю накладывать снопы, хлыщу рожь, таскаю солому...» (выпуск III, стр. 42). И всегда в такого рода описаниях непосредственно проявляется глубокая любовь Бородина к народной жизни.
Четвертый выпуск «Писем» охватывает последние четыре с лишним года жизни Бородина (1883–1887). Это был тяжелый период политической реакции, преследовавшей все лучшее и передовое в русской общественной жизни, науке, искусстве. В 1887 году царское правительство закрыло Высшие женские курсы. Это событие потрясло Бородина. До последнего дня жизни он не терял надежды на возрождение своего детища, созданию которого отдал так много сил. «Не может быть, — с тревогой писал он,— чтобы дело женского медицинского образования в России так и погибло». Гнетущая атмосфера реакции сковывала деятельность Бородина и в Медико-хирургической академии. Все это нашло свое отражение и в письмах Бородина последних лет его жизни...
В четвертом выпуске «Писем» опубликованы четыре обстоятельные музыкальные рецензии, написанные Бородиным в 1869 году для «Санкт-Петербургских ведомостей». В 1889 году Стасов включил эти статьи в сборник «А. П. Бородин. Его жизнь, переписка и музыкальные статьи». С тех пор они не переиздавались1.
«Музыкальные заметки» Бородина следует отнести к значительным страницам в истории русской музыкально-критической мысли прошлого столетия. Статьи Бородина могут служить примером вдумчивого и содержательного анализа и принципиального подхода к оценке крупнейших музыкальных явлений того времени. Во всех своих суждениях и выводах Бородин неизменно выступает как страстный, убежденный поборник реалистического направления в русской музыке.
В дополнении к четвертому выпуску «Писем» даны широко известные воспоминания Бородина о Мусоргском (1881), а также ряд писем и документов, по различным причинам не вошедших в первые три выпуска. Среди них письма к Д. И. Менделееву, А. М. Бутлерову, отчет о заграничной командировке 1859–1862 гг., донесения, заявления и другие материалы, связанные с научной и общественной деятельностью Бородина. Таким образом, эпистолярное наследие Бородина представлено с максимальной полнотой.
В заключение несколько слов по поводу издания «Писем». Мы отчетливо представляем себе все трудности, связанные с собиранием, систематизацией и комментированием писем, составивших большое четырехтомное издание. Однако, на наш взгляд, редактор С. Дианин не совсем правильно понял свою задачу, чрезмерно перегрузив издание громоздкими, далеко не всегда существенными комментариями, обильным количеством ненужных ссылок, которые в большинстве случаев не помогают, а затрудняют чтение2. В самом деле, к чему, например, понадобилось публиковать решительно все черновики и варианты писем, в основной своей массе ничем не отличающиеся друг от друга, как и от полного текста письма? Некоторые из таких черновиков воспринимаются буквально как курьезы и выглядят, например, следующим образом: «[К неизвестному лицу] С.-Петербург 7 ноября 1885 г. Имеем честь сообщить [...]» Редактор в таких случаях спешит известить читателя, что «на этом месте рукопись черновика обрывается». Или же возьмем черновик письма к Н. Н. Кармалину: «[Вторник, 26 ноября 1885 года?] Милостив (ый) Государь Николай Николаевич, я вчера [...]» Прямые и круглые скобки то и дело утомительно фиксируют внимание читателя на пропущенной запятой или неясно обозначенной в подлиннике точке. Из 478 страниц четвертого выпуска «Писем» сами письма занимают 307 страниц, остальное — примечания, значительная часть которых не представляет никакого интереса и только отяжеляет и удорожает издание. Вот, пожалуй, единственное обстоятельство, несколько омрачающее радость по поводу вышедшего в свет полного собрания «Писем А. П. Бородина».
Гр. Бернандт
_________
1 В настоящее время Музгиз издал статьи Бородина отдельной брошюрой.
2 Это правильно отмечалось в фельетоне И. Рябова «Наследники», опубликованном в «Правде» от 27 августа 1951 года.
Хорошее начинание и досадные небрежности
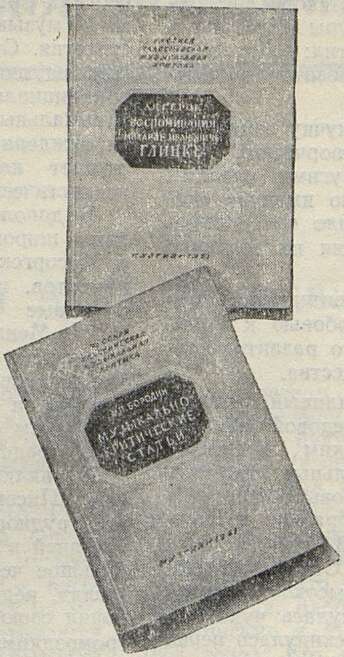
Выпускаемая Государственным музыкальным издательством серия брошюр «Русская классическая музыкальная критика» представляет не только исторический, но и познавательный интерес. Публикация статей классиков русской музыкальной критики именно в массовой серии является средством активной борьбы за овладение классическим наследством.
Вышли из печати три книжки этой серии: «Избранные статьи» В. Ф. Одоевского, «Музыкально-критические статьи» А. П. Бородина и «Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке» А. Н. Серова. Первая из названных брошюр уже была рассмотрена в «Советской музыке» (№ 7, 1951 год). В настоящей заметке остановимся на двух других брошюрах.
Имя Бородина-композитора, автора гениальной оперы «Князь Игорь» и «Богатырской симфонии», хорошо известно самым широким кругам слушателей. Многие знают о Бородине и как о крупном ученом-химике. Но лишь сравнительно узкий круг читателей знаком с его музыкально-критической деятельностью, хотя и кратковременной, но интересной, сыгравшей немаловажную роль в развитии русской музыкальной культуры.
Три музыкально-критических статьи Бородина, составляющие содержание рассматриваемой брошюры, являются рецензиями на семь симфонических концертов Русского музыкального общества и концерт Бесплатной музыкальной школы, состоявшиеся в Петербурге в сезон 1868–1869 гг. В этот период Бородин был уже зрелым музыкантом, автором 1-й симфонии и ряда других произведений. В своих статьях он выступил как убежденный пропагандист русской реалистической музыки, как активный борец против формализма, рутины и штампа.
Анализ произведений и концертных программ, даваемый в статьях Бородина, ясно показывает реалистическую направленность его художественных взглядов. Большой интерес представляют его характеристики и оценки симфонических произведений Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Бетховена, Моцарта, Шумана, Шуберта, Берлиоза, а также высказывания по вопросам исполнительства (в том числе о М. Балакиреве-дирижере, об А. и Н. Рубинштейн и др.). Бородин выдвигает в своих статьях и некоторые важные творческие проблемы (программность, художественное мастерство и др.).
Вступительный очерк редактора книги В. Протопопова в основном правильно раскрывает значение музыкально-критической деятельности Бородина. Разбирая статьи Бородина, автор очерка акцентирует их существенные моменты, более подробно останавливаясь на оценке произведений русских композиторов, показывая отношение Бородина к проблемам программности и художественного мастерства. В очерке сообщаются некоторые фактические данные о публикации статей Бородина.
Все же хотелось бы во вступительном очерке найти более полную характеристику музыкально-критических взглядов Бородина. В частности, следовало бы остановиться на высказываниях Бородина об исполнительстве, систематизировать их, показать их значение в наше время. Следовало бы также подробнее комментировать некоторые спорные суждения композитора (например, о Вагнере).
Непонятно, почему в издании не оговорены сокращения текста Бородина, взятые в прямые скобки. Необходимо было указать, кому принадлежат эти сокращения и по каким мотивам они сделаны. «Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке» принадлежат к лучшим страницам литературных трудов выдающегося русского музыкального критика и композитора А. Серова.
«Быв приятельски знаком с Глинкою в последние пятнадцать лет его жизни, имев счастье очень часто слышать его, как вокального исполнителя собственной его музыки и импровизатора... пользоваться вообще, в совоих занятиях искусством, его частыми и долгими беседами и советами, я ставлю себе долгом, — писал Серов, — дать обстоятельный отчет о великом русском музыканте, каким я его лично знал, сообщить, по возможности, каждое его замечательное слово, представить фотографически верный снимок с него, каким я его видел и слышал». И этот свой долг Серов выполнил с вдохновением и горячей любовью к автору «Ивана Сусанина».
Трудно переоценить значение его «Воспоминаний», далеко выходящих за рамки мемуарной литературы. Серов не только воссоздает образ Глинки как композитора и человека, но и воспроизводит для нас ряд его замечательных высказываний о музыке.
Глинка в «Воспоминаниях» Серова показан не только как гениальный композитор, но и как непревзойденный исполнитель своих вокальных произведений, владевший «тайною: с первых звуков переселить слушателя в ту особенную атмосферу, которая составляет задачу исполняемой музыки, в то особенное настроение духа, которое вызывается поэтическим смыслом пьесы, и держать слушателя под магнетическим обаянием от первого звука до последнего»; «Идеалом его была драматическая правда в музыке, верность идее, которая служит задачею каждого отдельного произведения». Анализ исполнения Глинкой многих его романсов, высказывания самого Серова о музыкальном исполнительстве очень ценны и для композиторов и для исполнителей.
_________
А. П. БОРОДИН. Музыкально-критические статьи. Музгиз, 1951. А. Н. СЕРОВ. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке.
Музгиз, 1951.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Сталинские лауреаты 3
- Служение современности 9
- «Огни над Волгой» 16
- О композиторской молодежи 27
- Проблема музыкального жанра и реализм 31
- Горький и Шаляпин (Очерк первый) 40
- Новые времена — новые песни 54
- Опера на колхозной сцене 64
- В Каховке 68
- Музыка в клубе 70
- Классическую оперу — на экран 73
- В защиту жанра оперетты 79
- Юбилейный вечер Россини 87
- Мастера венгерского искусства в Москве 90
- Глазунов — Чайковский 92
- Вечер азербайджанской музыки 92
- На концерте Молодежного оркестра 93
- Выступления Вилли Ферреро 94
- Концерт Л. Оборина 95
- Выступление молодого пианиста 95
- Произведения для духового оркестра 96
- Талантливый баянист 98
- Хроника концертной жизни 98
- Рижские впечатления 100
- У композиторов Одессы 101
- Развивать лучшие традиции русской музыки 103
- Вопросы музыки на страницах «Правды Востока» 105
- В Союзе советских композиторов 107
- В несколько строк 111
- Крупный советский музыкант (К 75-летию А. Ф. Гедике) 112
- Письма А. П. Бородина 114
- Хорошее начинание и досадные небрежности 116
- Новое в советской глинкиане 117
- Музыкальная жизнь народной Албании 119
- «Похождения распутника» (О новой опере И. Стравинского) 120
- Зарубежная хроника 121
- Знаменательные даты 123



