сложнейшее дело машине. Всю же подготовительную работу он возлагает на анализатора и оператора, манипулирующего на созданном им аппарате «Вариофон № 2». Оператор, имея перед собой подготовленные, пронумерованные и согласованные до сотых долей секунды «рабочие чертежи» элементов музыкального произведения и манипулируя разнообразными рукоятками, рычагами и педалями машины, последовательно, шаг за шагом, наносит на кинопленку все эти графические элементы. Как в предшествующий период математического анализа музыкального произведения, так и во время перевода его на пленку, аранжировщик и оператор (их обычно совмещает в одном лице сам Шолпо) не слышат ни одного звука. «Вариофон» нем, и слуховой контроль полностью отсутствует, будучи заменен умозрительным математическим контролем по секундомеру, счетчику кадров пройденной пленки, шкалам и циферблатам, которыми в изобилии снабжен «Вариофон № 2».
И только когда этот сложный процесс закончен и получена звуковая пленка с нанесенной на ней звуковой дорожкой, можно услышать в громкоговорителе звуковой киноустановки то, что было на ней записано.
Что же мы слышим на такой «синтетически» и «научным способом» сделанной кинопленке? Может ли графический звук дать нам впечатление живой музыки, подобно непосредственно записанной от исполнителя через микрофон?
Конечно, нет.
Получается впечатление абстрактной, выхолощенной, схематизированной, а поэтому и лишенной идейно-художественного и эстетического значения музыки.
Своими порой совершенно необычными сочетаниями, своими подчас еще неслыханными тембрами такая рисованная «синтетическая» музыка может представлять некоторый интерес, как контрастирующая с обычной «живой» (с точки зрения Шолпо, «кустарной») музыкой, — не более. Но слушать ее долго нельзя. Она быстро надоедает и утомляет. Она ничего не говорит ни уму, ни сердцу.
Налицо — продукт явно формалистического «творчества», музыкальный суррогат, который никоим образом не может заменить живого исполнителя.
Ставя в вину Шиллингеру то, что «он устраняет композитора и исполнителя, поручая автоматам-машинам заканчивать творения автоматов-людей», Шолпо в своей многолетней работе, однако, руководствуется теми же самыми принципами, с той только разницей, что за отправную точку в своей работе он берет пока еще произведение, созданное композитором, остальное же поручает заканчивать инженерам и автоматам-машинам...
Как видно, Шолпо здесь недалеко уходит от Шиллингера, от которого он тщетно пытается отмежеваться.
Чувствуя шаткость своей позиции в деле передачи чисто математическими средствами выразительности музыкальных произведений, Шолпо прибегает к расшифровкам записей живого исполнения (записи игры пианистов на валиках для «Вельте-Миньон» и т. п. аппаратов), стремясь при помощи последних проникнуть в «тайны» выразительности живой музыки, найти какие-то «законы» в области агогических и динамических оттенков. Однако эта кропотливая работа, повидимому, мало помогает в деле придания его произведениям должной выразительности и естественности. Эти расшифровки, переведенные в точные интервалы времени и соответствующие графики, являются одной из стадий формального анализа материала, и, будучи оторванными от звукового образа в целом, вряд ли могут существенно помочь аранжировщику в его сложной и трудной работе. Правда, этим Шолпо якобы реализует столь ценимое им «точное воспроизведение зафиксированных показателей музыкальной выразительности». Но что могут дать живому музыканту эти графические «показатели», фиксирующие лишь внешнюю сторону музыкальных явлений? Неужели эти показатели могут заменить нам живое восприятие музыки и определить наше к ней отношение, как это утверждает quasi-научная система Шолпо?
Работа Шолпо длится уже много лет, его изыскания и эксперименты поглотили немало государственных средств. «Вариофон № 2» дал Шолпо возможность получить, минуя художественные советы наших крупнейших консерваторий и музыкальных научных институтов, ученую степень доктора искусствоведения. Однако полученные от этой работы результаты оказались совершенно ничтожными для советской музыкальной культуры. Думается, что продолжение разработки этого бесперспективного и формалистического по своему существу изобретения есть ненужное и никчемное дело. Советскому исполнительскому искусству не по пути с бездушной «музыкальной инженерией».
П. Зимин
Некрологи
Л. А. Половинкин
Леонид Алексеевич Половинкин был талантливым советским композитором, создавшим ряд произведений в различных жанрах музыкального искусства. Серьезный и взыскательный художник,
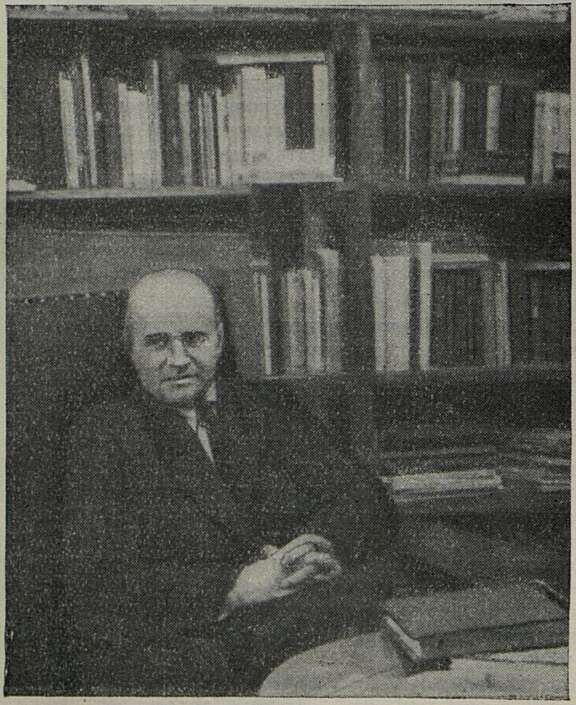
Л. А. Половинкин
он много работал над совершенствованием своего мастерства.
В 1924 году Леонид Алексеевич блестяще окончил Московскую консерваторию по классам С. Василенко (композиция) и К. Киппа (фортепиано). Его имя было занесено золотыми буквами на мраморную доску. Тотчас же по окончании консерватории он начинает свою активнейшую творческую работу, не замыкаясь в узких академических рамках, стремясь общаться с народом. Он выступает в многочисленных шефских концертах; совместно с известным балалаечником Трояновским пропагандирует русское искусство. Тогда же Леонид Алексеевич начинает свою деятельность в области театра, которому впоследствии посвятил столько времени и сил. Он работает в Ленинградском Александрийском театре, где приобретает большой опыт в дирижировании и инструментовке. В Ленинграде началась его дружба с Б. В. Асафьевым, которая не прекращалась до последних дней жизни. Много ценного и полезного почерпнул из бесед с Асафьевым тогда еще молодой композитор, жадно впитывая опыт, накопленный его старшим товарищем. Когда незадолго до кончины Бориса Владимировича мы зашли к нему с Леонидом Алексеевичем, я с восхищением следил за их остроумной беседой, за ходом оригинальных мыслей, по-иному вдруг освещающих знакомый предмет.
Леонид Алексеевич с горячей любовью относился к нашей детворе и много сил отдал работе с нею. Являясь в течение 15 лет заведующим музыкальной частью Центрального детского театра, он написал музыку ко многим пьесам. В их числе были популярнейшие спектакли театра: «Я — мало, мы — сила», «Золотой ключик», «Негритенок и обезьяна», «Сережа Стрельцов» и много других. Музыка Л. А. Половинкина отличалась мелодичностью и изяществом, способствовала воспитанию в детях хорошего художественного вкуса. Эта музыка пережила спектакли, к которым она была написана: вальс из «Сережи Стрельцова», музыку к «Золотому ключику» мы до сих пор слышим по радио. Песни Л. А. Половинкина распевались детьми по всей стране. Кто не помнит таких песен, как «Спасибо товарищу Сталину», песенку «О метро»? Им была написана и поставлена в Москве и Киеве опера «Сказка о рыбаке и рыбке».
Леонид Алексеевич явился организатором и дирижером детских симфонических концертов. Программы этих концертов составлялись так, чтобы познакомить детей с лучшими произведениями классической музыки. Исполнение сопровождалось пояснительным словом. Этому культурному начинанию, оставившему глубокий положительный след в нашей музыкальной жизни, Леонид Алексеевич отдал много сил и времени.
Леонид Алексеевич любил молодежь и всегда стремился помочь талантливым людям проявить свои способности. Он привлек молодых тогда композиторов Хренникова, Кабалевского, Фере к работе над созданием музыки для спектаклей Детского театра.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- За большевистскую партийность в советском музыковедении! 5
- Резолюция Второго пленума правления Союза советских композиторов СССР 14
- Общее собрание в Ленинградском союзе советских композиторов, посвященное обсуждению задач музыкальной критики и науки 19
- Композиторы БССР за 30 лет 31
- Пути развития советской оратории и кантаты 37
- «Симфонические мугамы» Фикрета Амирова 42
- Бедржих Сметана (К 125-летию со дня рждения) 46
- О русском симфонизме 56
- Белорусские композиторы в Москве 61
- Натан Рахлин 64
- Концерт Л. Оборина 66
- К концертному выступлению Бориса Гмыри 67
- Концерты Ирины Масленниковой и Вероники Борисенко 68
- Концерт хора под управлением Свешникова 69
- Государственный ансамбль песни и танца Белорусской ССР 70
- Записки радиослушателя 71
- Вечер памяти Бедржиха Сметаны 73
- Возрожденные голоса 74
- Еще о «музыкальной инженерии» 76
- Л. А. Половинкин 78
- Ю. Таллат-Келпша 80
- Е. А. Лавровская (К 30-летию со дня смерти) 82
- По страницам печати 86
- Хроника 92
- В несколько строк 99
- Из редакционной почты 101
- Новый чехословацкий музыкальный журнал 105
- Польский музыкальный журнал 107
- О французском музыкальном журнале «La Revue Musicale» 111
- Библиография и нотография 114



