ва Оргкомитета, рассадника формалистического направления, произошел потому, что некоторые паши композиторы и критики оказались, подобно Антею, оторванными от матери-земли, от своего народа.
В. О. Берков говорил о том, что для советских музыковедов было бы серьезной ошибкой отойти после Постановления ЦК ВКП(б) от изучения острых и актуальных проблем советской музыки или прекратить исследование творчества композиторов, разделивших формалистические заблуждения. Задача заключается, прежде всего, в том, чтобы исследовать творчество советских композиторов с правильных позиций и делать из научных наблюдений жизненно-правильные выводы. Однако в круг исследовательских интересов советских музыковедов должна входить вся область музыкальной культуры в целом, от русской и западной музыкальной классики до музыки современного буржуазного Запада, для борьбы с которой нужно быть хорошо вооруженным знанием этой музыки.
В оценке своих работ о творчестве С. С. Прокофьева т. Берков, к сожалению, проявил абсолютную несамокрнтичность.
В. А. Белый: Формалистическое направление необычайно укрепилось в советской музыке. Жизненные общенародные критерии, которыми проникнуто Постановление ЦК, мы подменили в своей работе кастовыми, слепыми, формалистическими критериями. И нет принципиальной разницы между композиторами, творчество которых является наиболее полным воплощением формализма, и композиторами, утешающими себя тем, что они являются формалистами не на все 100%. У меня лично в процессе осознания Постановления ЦК вначале не было ясного представления о моей внутренней связи с формализмом, о той связи, которая шла через мои инструментальные произведения, в частности фортепианные сонаты. Я очень благодарен моим товаршцам-коммунистам, которые на партийном собрании, предшествовавшем этому собранию, резкой критикой помогли мне до конца понять эту важнейшую, определяющую сторону моей деятельности.
Прав был выступавший здесь т. Виноградов, говоривший о раздвоенности творчества некоторых композиторов — Прокофьева. Шостаковича. Эта же раздвоенность присуща и моей музыке. Достаточно сравнить «Орленка», «Песшо смелых», «Балладу о капитане Гастелло» с моими фортепианными сонатами, где индивидуальные настроения нашли свое выражение с помощью музыкальных средств, лишенных мелодизма, сумбурных и обнаженных в своей неврастеничности.
И эта раздвоенность, нерешительность, половинчатость определяли собой и мое общественное поведение.
В Оргкомитете вся оперативная повседневная работа легла на меня. Я, действительно, пес подавляющую часть работы, общался со всей массой композиторов, знал их творческие настроения. их резкое недовольство затхлостью и бюрократизмом организационной системы Союза композиторов. Но я занимался частностями, делячеством, вместо того, чтобы попытаться коренным образом изменить положение. Для последовательной борьбы с основной опасностью в музыке —
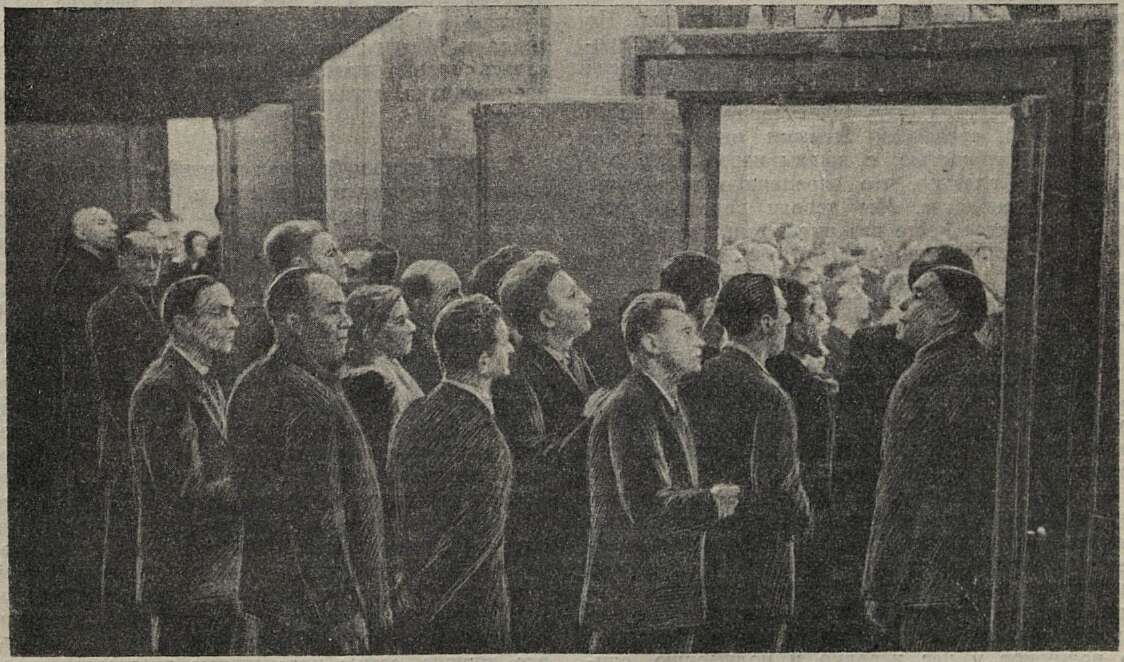
У входа в зал
господством формалистического течения — у меня, из-за двойственности моих творческих взглядов, из-за отсутствия ясного последовательного представления о формализме как разросшемся и крепко утвердившемся антинародном течении, не было ни силы, ни воли, так же как не оказалось ни силы, ни воли бороться с проявлениями необщественного поведения моих товарищей в их практической организационной работе.
Всем этим определяется моя личная вина за то тяжелое положение, к которому пришел Оргкомитет.
Лишь одно обвинение я хочу опровергнуть, — обвинение в насаждении здесь, в ССК, рапмовской групповщины, то-есть в антипартийных поступках.
Далее т. Белый говорит о попытках некоторых товарищей распространить ответственность за состояние советской музыки на смежные музыкальные организации (Филармония, Музгиз и т. д.). Их нужно критиковать, но указание ЦК, что Оргкомитет стал основным рассадником формализма, подчеркивает особую роль ССК в руководстве музыкальным творчеством и вины с него не снимает.
В больших принципиальных вопросах, — говорит т. Белый, — мы сдавали позиции перед различными организациями, в том числе и перед Комитетом по делам искусств, — даже в тех отдельных редких вопросах, когда ясно осознавалась необходимость критики. Мы малодушно отступили перед т. Храпченко, когда он снял в журнале «Советская музыка» критическую статью Ю. В. Келдыша о 9-й симфонии Шостаковича; отступали и в других вопросах.
Между тем, не являясь, конечно, административной организацией, Союз композиторов должен был создать внутри себя и вовне такую общественно-критическую атмосферу, с которой не могли бы не считаться любые учреждения. Но сделать это можно было, только проводя правильную линию в искусстве. Наша линия была неправильная, критическая атмосфера отсутствовала, мы перестали быть общественно-творческой организацией, связанной живыми нитями с нашей общественностью, с нашим народом. И это было самое главное, что определило загнивание нашего руководства. Мы довели дело до того, что понадобилось еще раз вмешательство партии.
Сейчас великие указания партии надо проводить в жизнь. Задача каждого из нас, и моя в том числе, отдать все силы и энергию для новой созидательной работы.
3. А. Левина затронула ряд важных вопросов — о причинах провала оперы «Великая дружба» В. Мурадели, о культурном кругозоре композитора, о порочном стиле руководства прежнего состава Оргкомитета и др.
— Музыка «Великой дружбы» страдает, в первую очередь, обезличенностью музыкальных характеристик и абстрактностью «общевосточного» неиндивидуализированного колорита. А всякая безличная, неорганичная, формалистическая музыка производит на слушателей впечатление нестройного шума, дисгармонии и скуки. Формально понимают у нас нередко и полифонию, считая, что выразительной должна быть только основная мелодическая линия и механически приписывают к ней контрапунктирующие ноты. А на самом деле музыкальная правда и логика должны быть не только в горизонтальной, мелодической линии, но и в вертикальной, гармонической. Было бы глубоко ошибочно обеднять гармонический и мелодический язык нашей музыки; наоборот, усвоив достижения классической музыки, мы должны поднимать его на еще большую высоту. В основу основ музыки, мелодию, мы должны вложить жизненную правду нашего времени. вложить душу.
Меня обрадовало письмо С. С. Прокофьева. Из него видно, что он очень серьезно отнесся к Постановлению и несомненно сделает для себя положительные выводы. Мне только кажется, что стремление сочинять мелодию, во что бы то ни стало не похожую ни на что, написанное до сих пор, не может быть основным, чем должен руководиться композитор при создании мелодии.
Среди композиторов в ходу мнение, что широкое ознакомление с музыкальной литературой вредно, что оно лишает оригинальности. Поэтому некоторые композиторы не интересовались иными музыкальными сочинениями, кроме собственных. На деле это только обедняло творческую мысль, толкало к бесконечному самоповторению. Не привело ли и Хачатуряна к «Симфонии-поэме» постоянное обращение в поисках образцов к своему же прошлому? Выступление А. И. Хачатуряна не совсем меня удовлетворило. Беда «Симфонии-поэмы» не в избытке техники, а в ее слабости, не в отсутствии народных оборотов, а в неумении донести их до слушателя. Сужение кругозора, отход от жизни, прекращение учебы обязательно приведут к формализму.
Прежнее руководство Оргкомитета проявляло полное равнодушие к музыкальному творчеству композиторской массы, к музыкальной культуре страны. Я четыре года руководила Комиссией детской музыки и за все время ни разу не была вызвана в Оргкомитет. Полное равнодушие проявлял и Музгиз: из всех его редакций чувствовалась только массовая, и то прием сочинений производился, главным образом, в коридоре и на бегу.
М. В. Коваль: Суровая партийная оценка музыкальной критики целиком и полностью подтверждается многочисленными фактами. Среди наших музыковедов и критиков не нашлось ни одного человека, который бы высоко поднял знамя социалистического реализма в музыке, был бы стойким и неуклонным поборником русской реалистической музыки, решительным и стпастным противником музыки упадочной, формалистической. В многочисленный хор аллилуйщиков перешли критики всех направлений. Даже бывший неудачливый руководитель РАПМ тов. Лебединский, некогда подававший свое мнение против декадентской музыки, оказался в стане формалистического направления. Выступление тов. Лебединского в защиту Шостаковича на пленуме Оргкомитета в 1946 году — один из многочисленных примеров низкого уровня нашей критики. На совести многих музыкальных критиков лежит неверная идейная и творческая ориентация Шостаковича. Сейчас уже можно сказать, что лучшие, самые интенсивные творческие годы Шостаковича прошли в большой степени на холостом ходу и что он не дал своей Родине того, что она ожидала от его огромного дарования.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Об опере «Великая дружба» В. Мурадели 7
- Вступительная речь тов. А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 13
- Выступление тов. А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 20
- Великому вождю советского народа товарищу Сталину 33
- Говорят классики 35
- За творчество, достойное советского народа 59
- Выступления на собрании композиторов и музыковедов г. Москвы 69
- Смех сквозь слезы 109
- По страницам печати 115
- Хроника 127
- Три лучшие песни о Сталине 131
- Кантата о Сталине 135
- Песня о Сталине 139
- Величальная И. В. Сталину 143



