музыкально-общественную работу в Московском Доме культуры Советской Армении, в Производственном коллективе композиторов — при Консерватории.
Мы видим, что, в сущности, уже в эти годы — годы учения — Хачатурян выступает, как активный, горячо и непосредственно чувствующий действительность художник. В эти годы он еще не достиг того высокого уровня культуры и мастерства, который бы соответствовал степени его природного дарования. Но творческие интересы его разносторонни. В его художественной деятельности всегда ощущается огромная сила таланта, кровно связанного с народной культурой, с народным искусством.
Есть чрезвычайно важная черта, как бы объединяющая многообразные творческие интересы композитора, придающая им характер принципиально единой художественной целеустремленности. Это — живое, органичное сочетание самобытных импровизационных форм народного искусства и высоких традиций романтического симфонизма. Иначе говоря, это — внутренне осознанное стремление композитора найти свой путь к созданию советской симфонической классики через глубокое, творческое проникновение в сущность самобытного народного симфонизма.
Решение этой задачи, разумеется, немыслимо при вульгарном понимании народности музыкального творчества, как прямого заимствования народных тем в более или менее гладенькой (т. е. безличной) обработке. Решение этой задачи предполагает более сложный и трудный путь — путь творческого обогащения фольклора индивидуально-яркой фантазией художника, в совершенстве владеющего выразительными средствами своего искусства.
Отмеченные мною выше произведения Хачатуряна 1932–1933 годов — первые и довольно смелые шаги на избранном пути. Пять лет последующей работы композитора, чрезвычайно интенсивной, упорной, приводят его к высоким творческим достижениям.
В 1934 году Хачатурян закончил большую 3-частную симфонию. Это талантливое сочинение, особенно ее первую часть — монументальное Allegro с широким вступлением импровизационного склада, — можно без всяких преувеличений охарактеризовать как важную веху не только в творческом пути композитора, но и в общем развитии советского симфонизма. Роль этого произведения в нашей симфонической музыке ничуть не меньше, чем роль оперы «Тихий Дон» И. Дзержинского в советском музыкально-драматическом искусстве.
Все, что Хачатурян писал до симфонии, кажется подготовительной работой к этому большому и глубокому по мысли сочинению. В совершенно самостоятельной — и по замыслу и по форме — первой части симфонии Хачатурян уже смело утверждает свои принципы композиции, открывая широкий кругозор симфонического развития, симфонической мысли.
Симфония Хачатуряна — произведение лирико-эпического склада1.
Ее содержание — величавый эпос новой, напряженной, радостной, в труде и борьбе жизни. Allegro (первую часть) этой симфонии я назвал бы большой и, по значению, вполне самостоятельной симфонической поэмой. Она насыщена великолепной, эмоционально выразительной мелодикой, острым и динамичным ритмическим развитием.
_________
1 Разбор симфонии сжато изложен в моей статье о Хачатуряне, напечатанной в «Советском искусстве» — 29 мая 1935 г. — Г. Х.
Организующим началом симфонического развития у Хачатуряна является ритм. Это отчетливо ощущается уже в рапсодическом вступлении, где тема-напев как бы рождается из ритма: танцевальное же движение контрастирует теме-напеву прежде всего новым ритмическим качеством (см. прим. 1 и 2).
Прим. 1
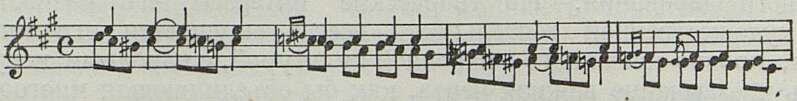
Прим. 2
Вступление представляет собою как бы широкий эпический пролог, в котором раскрывается перед слушателем основной тематизм симфонии (в его зерне).
Тема-напев пролога — характерный, типический образец интонационного мышления Хачатуряна. Мелодия напева, навеянная близким композитору творчеством ашугов, родственна лучшим темам композитора, в его трио, фортепианном концерте, симфонической поэме о Сталине.
Здесь же, касаясь особенностей интонационного мышления Хачатуряна, я хочу отметить характерную черту композитора: постоянное стремление к «колорированию» народной диатоники хроматизмами. Этим, в частности, определяется острая пряность гармонического языка Хачатуряна.
В симфонии прочно утверждается основной принцип хачатуряновского симфонизма — единство многообразного тематического материала в развитии, или, иначе говоря, монотематизм.
Этому принципу Хачатурян следует во всех своих крупных композициях.
Первая тема первой части симфонии (Allegro mа non troppo) непосредственно и органично вырастает из пролога. Ее унисонное движение носит строгий и суровый характер (виолончели и контрабасы на педали валторн):
Прим. 3
![]()
В интонационном складе этой темы есть черты, напоминающие знаменитую секвенцию Фомы Челанского «Dies irae» («День гнева»). В ее величавой поступи, в ее ритме слышны отзвуки «богатырских» тем Бородина.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Алмаст» — А. Спендиарова 9
- Воспоминания об А. А. Спендиарове 17
- Воспоминания об А. А. Спендиарове 19
- Воспоминания об А. А. Спендиарове 22
- Арам Хачатурян 24
- Богатырский эпос армянского народа— «Давид Сасунский» 46
- Фрагменты из эпоса «Давид Сасунский» 55
- Деятели армянской музыкальной культуры 61
- Отрывок из неизданного квартета Комитаса 68
- Музыка Белорусской республики 69
- Белорусская опера 72
- Музыка в жизни и творчестве Лермонтова 92
- Романс «Соседка» 104
- Романсы Чайковского. Очерк первый. Романсы 1869–1875 гг. 109
- «И жизнь хороша, и жить хорошо…» 132
- Ансамбли песни, музыки и танца народов РСФСР 135
- Азербайджан 137
- Узбекистан 139
- Казахстан 141
- Киргизия 143
- Над чем работают советские композиторы 145
- Конкурс на оборонную песню 146
- Лермонтов в советской музыке 147
- «Песня про купца Калашникова» 147
- Новые издания 148
- Новинки Библиотеки Московского Союза советских композиторов 149
- Хроника 150
- Е. М. Браудо 152



