самые звукоряды напевов, неоднократно сменяются на протяжении повествования. Поступенные ходы голоса являются преобладающим видом мелодического движения; из скачкообразных ходов чаще других встречается ход на чистую кварту вниз к опорному тону.
Что касается исполнения «Манаса», — то это не спокойное, бесстрастное музыкальное повествование. Выразительность, напряженность — его характерные черты; пение сопровождается своеобразной мимикой исполнителя. Обращаясь то к одной, то к другой группе слушателей, он встречает одобрительные возгласы, реплики.
Повествование начинается в спокойном движении; по мере развития ритм и темп повествования становятся все более напряженными, стремительными. Начальные слоги каждого стиха певец часто отмечает музыкальной акцентацией; своеобразная атака звука и стремительные, скользящие взлеты голоса придают исполнению некоторых слогов характер выкрика.
Украшающие, «мелизматические» звуки в исполнении манасчи совершенно отсутствуют.
Каждый эпизод поэтического текста «Манаса» не имеет определенных, закрепленных за ним напевов и может исполняться каждый раз с другими напевами.
Изучение музыкального языка киргизского эпоса еще только начинается. Само собою разумеется, что при этом нельзя ограничиться наблюдениями только над «Манасом» и к тому же в исполнении только одного, хотя бы и выдающегося манасчи.
Для всестороннего изучения необходима, в первую очередь, организация — в широких масштабах — высококачественных звукозаписей и их расшифровок, дающих представление о возможно большем количестве эпических сказаний; эти записи должны быть сделаны от большого количества певцов всех районов Киргизской ССР — так, чтобы можно было учесть те или иные локальные признаки напевов и манеры их исполнения. Только тогда можно будет сделать выводы и обобщения, необходимые для определения корней и различных этапов исторического развития киргизской музыки, а также ее взаимоотношений с музыкальными культурами других народов.
Проблема исторического развития эпоса в музыке народов СССР должна занять одно из важнейших мест в советском музыкознании.
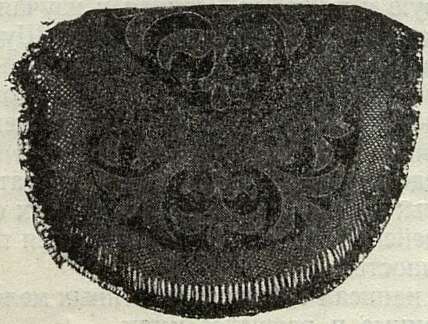
Абдылас Малдыбаев
Народный артист Союза
ССР, депутат Верховного
совета СССР, орденоносец
Мой творческий путь
Моя работа над киргизской музыкой, как и моя творческая деятельность, непосредственно связана с ростом и развитием киргизского музыкального театра. Однако зачатки моего творчества проявились давно, гораздо раньше чем киргизский народ получил возможность создавать свой театр.
Еще в раннем детстве, когда голод и нужда заставляли меня служить пастухом у бая, я видел тяжелую жизнь своего народа. Проводя целые дни на пастбищах с отарой овец, я пел песни, наигрывал на комузе мелодии, которые слышал в юртах бедняков. Я помню жестокое поражение восстания киргизского народа в 1916 г., когда я вместе с родителями бежал от преследования царских войск в Китай. Все это не могло не отразиться на песнях, которые я в юности сочинял, в которых я хотел выразить все переживания моего народа.
Но когда началась новая жизнь, когда Киргизия при помощи братского русского народа избавилась от царских палачей и стала свободной, счастливой советской страной — песни мои сделались радостными, веселыми. Я пытался в них отразить ту замечательную жизнь, которую дала нам партия большевиков, партия Ленина — Сталина.
Мои первые работы для драматического театра относятся к 1928 г., когда я — еще студентом — играл в драматических кружках. К пьесе «Карагач» я написал мелодии (в простой куплетной форме), сопровождавшие по ходу действия спектакль. Это был мой первый композиторский опыт.
В 1936 г. в Киргизию приехали русские композиторы— тт. Власов и Фере; постепенно росли и выдвигались свои кадры — киргизские поэты, драматурги, музыканты. Я включился в работу русских композиторов над музыкальным спектаклем «Аджал ордуна». Здесь я уже стремился отойти от простой куплетной формы, начал развивать свои мелодии в ариозно-речитативном плане, сохраняя, вместе с тем, колорит и характер народной киргизской песни.
В огромной мере я обязан своим творческим развитием русской классической музыке, которую я полюбил, слушая и изучая ее в Москве. Много мне помогли товарищи по работе — композиторы Шубин, Власов и Фере, которым я очень благодарен.
В «Аджал ордуна» я использовал в широком, развитом виде новые народные мелодии и — в значительно большей степени — инструментальные наигрыши.
В «Айчурек» передо мной стояла задача — обогатить песенно-мелодический материал оперы; здесь в моих песнях и ариях сказалось также влияние русской и европейской мелодики; я стремился придать своим мелодиям большую красочность.
Для «Айчурек» я написал больше 90 песенных мелодий; часть из них — народные, переработанные и развитые мною.
Вспоминая свою печальную, трудную юность, вспоминая тяжелое прошлое киргизского народа, я хочу вновь подчеркнуть, что только со-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Декада киргизского искусства 7
- Мастера народного искусства 11
- Киргизская народная музыка 21
- О напевах киргизского эпоса «Манас» 33
- Мой творческий путь 38
- Мечта и явь 40
- Музыканты Советской Киргизии 42
- Горький и музыка 65
- Основной принцип эстетических воззрений С. И. Танеева 77
- О содержании и построении музыкально-теоретического образования 87
- Дискуссия о музыкальной критике 95
- Новые издания к юбилею М. П. Мусоргского 98
- Награждение участников декады киргизского искусства 100
- Хроника 101
- Два музыкальных фестиваля 104
- Концерт Мариан Андерсон 107
- О «Школе ф.-п. транскрипции» Гр. Когана 111
- Письмо из Австралии 112
- Хроника 113
- Женский танец из 2-го акта оперы «Айчурек» 115



