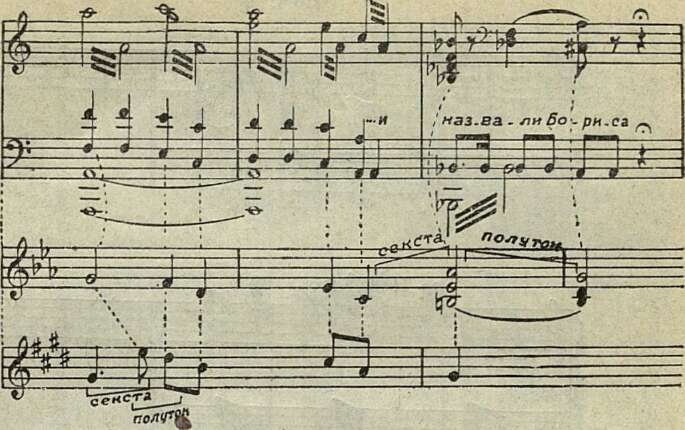
Прим. 3
стве с рассказом Пимена. В свете этих музыкально-тематических связей — глубокий смысл открывается в обращении Григория к Годунову:
...А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет,
И не уйдешь ты от суда людского,
Как не уйдешь от божьего суда.
Если добавить, что тема Димитрия по своим интонациям близка теме «разоренной Руси»1, то будет ясно, что драма социальная и драма личная неразрывны в «Борисе Годунове».
Сцена в келье — это не только существенный этап в развитии действия, этап, без которого цельность драмы была бы разбита. Она вносит нечто новое в трактовку образа самого Бориса: Борис обрисован Пименом как политический интриган, не остановившийся перед преступлением для достижения власти.
Сцена в тереме имеет, как известно, две редакции, оставленные Мусоргским2.
В сцене Бориса с Ксенией и Федором раскрываются новые стороны его характера: нежный отец, заботливо и чутко относящийся к горю дочери; просвещенный человек своего времени, прекрасно понимающий важность образования для сына. Эти человеческие черты делают привлекательным образ Годунова. Однако центр устремления в этой картине — все-таки в знаменитом монологе и последующей сцене с Шуйским.
В первой, так называемой «предварительной» редакции Мусоргского монолог предваряется темой Бориса и цепью аккордов, играющей важную роль в дальнейшем. В этой цепи необходимо отметить хроматическую последовательность в верхнем голосе и кварто-терцовый оборот в басу. Именно эти обороты связывают монолог с рассказом Пимена о событиях в Угличе:
_________
1 На эту близость указывает в своей статье В. Беляев, — см. сб. «М.П. Мусоргский’). Гос. муз. изд-во, М. 1930.
2 Не будем описывать общее различие их: оно уже установлено блестящим сравнительным исследованием И. Глебова: «О подлинном «Борисе Годунове». Очерк 2-й: «Музыкально-драматургическая концепция оперы «Борис Годунов» — (сборник «М. П. Мусоргский. Статьи и материалы», М. 1932).
Прим. 4
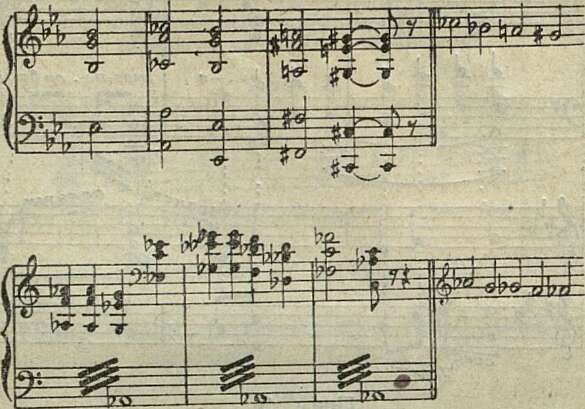
Здесь устанавливается новая форма зависимости различных музыкальных эпизодов, вытекающая из самой сущности драматургической ситуации.
Монолог в первой редакции построен на двух лейтмотивах; один из них передает муки совести «царя-детоубийцы», другой — его заботы о царстве1. При всем различии этих лейтмотивов они близки друг другу:
Прим. 5
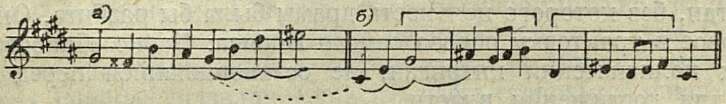
Близость их — в дорийской сексте (мажорная — большая — секста от тоники в миноре), столь характерной для тематики Мусоргского. В этих темах заложена и одна из характерных гармоний, часто встречающаяся в монологе (и других местах оперы), — минорное трезвучие с добавлением дорийской сексты, — моментами звучащая весьма патетично2.
Через весь монолог проходит характерный оборот, использованный в различных вариантах семь раз. Он выражает тревожное настроение Бориса, томительное ожидание какого-то тяжелого несчастья, сурового приговора судьбы:
_________
1 См. трактовку, данную Ю. Келдышем в статье «Мусоргский и проблема наследства прошлого» (в сборнике «М. П. Мусоргский. Статьи и материалы»).
2 Малый септаккорд, возникающий от добавления к минорному трезвучию большой сексты, у романтиков приобрел значение аккорда «томления» («Тристан и Изольда» Вагнера). У Мусоргского значение этого аккорда, как видим, иное. Характерно, что Мусоргский, в отличие от Вагнера, применяет этот аккорд не в основном виде, а почти всегда в обращении; таким образом дорийская секста оказывается наверху, тогда как у Вагнера она превращается в малую терцию, лежащую ниже минорного трезвучия.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Автобиографическая записка 9
- Великий новатор музыкальной драмы 13
- К новым берегам... 26
- О музыкальном языке Мусоргского 35
- Образ Бориса в опере Мусоргского 44
- Мусоргский и Флобер (к истории либретто оперы «Саламбо») 59
- Мусоргский-пианист 66
- Письма Мусоргского к А. А. Голенищеву-Кутузову 74
- Неопубликованные письма В. В. Стасова 101
- Забытый современник М. П. Мусоргского 107
- Мусоргский на советской сцене 113



