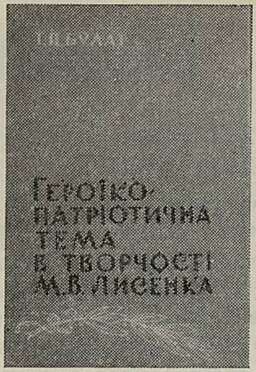
влияние Киевского университета. Новые архивные данные позволили автору рецензируемой книги связать развитие «народных настроений» Лысенко с более ранним периодом — с тем временем, когда он посещал Харьковский университет (1859–1860).
Большее, чем раньше, значение придает Булат воздействию на Лысенко его младшего брата А. Лысенко — участника революции 1905 года, члена РСДРП.
Постоянное общение Николая Витальевича с передовыми деятелями культуры, с трудовым народом и революционно настроенным студенчеством позволяло ему, как пишет Булат «...подняться над некоторыми общепринятыми в его среде представлениями», и оставить позади себя тех, «...кто не мог или не хотел идти далее чисто национальных дел... и быть всегда, до последнего вздоха, непримиримым врагом полицейско-самодержавного режима тогдашней России» (стр. 11–12).
Большое внимание в работе уделено характеристике Лысенко — пламенного пропагандиста народного музыкального творчества; при этом отмечается глубокий интерес композитора к песням славянских народов, которые были широко представлены в концертных программах и исполнялись в обработках самого Лысенко. Автор в целом удачно анализирует эти песни. Однако кое-где заметно излишнее увлечение технологическим анализом, что приводит к недостатку обобщений.
Нам кажется, что вывод о том, что все приемы и средства обработок, характерные для Лысенко, его творческие искания и выдающееся профессиональное мастерство «...раскрылись, пожалуй, ярче всего в обработках героико-патриотических народных песен», более действенно подтвердился бы при сопоставлении этих песен с песнями других жанров (лирическими, семейными, социального неравенства и др.). Надо было бы привести и примеры обработок народных песен, принадлежащих другим авторам, в частности последователям Лысенко.
Самая объемная глава книги «Героико-патриотическая линия в вокальных и инструментальных произведениях Лысенко». Правильно отмечая, что в основе этих произведений лежала народная героическая песня, Булат подчеркивает колоссальное влияние на все творчество Лысенко «...первого и воистину народного поэта» Т. Шевченко.
Под влиянием его поэзии, и в частности политической, «бунтарской» лирики, Лысенко «...первым в украинском искусстве языком музыки заговорил на социальные темы, общественно-политические идеи поставил в центре своего творчества» (стр. 50). В книге разбираются лысенковские композиции на тексты Шевченко — «Иван Гус», «Иван Пидкова», контаты «Бьют пороги», «Радуйся, нива неполитая», романсы «Гетманы, гетманы», «Ой чего ты почернело, зеленое поле» и др., послужившие для последующих поколений музыкантов образцом творческого разрешения героико-патриотической темы. Булат показывает, что именно в этих произведениях Лысенко создает новый в украинской профессиональной музыке тип мелодии — речитативно-думной. Однако трудно согласиться с выводом Булат, когда, описывая музыку к «Заповиту», она утверждает, будто Лысенко не поднялся в этом произведении до идейно-художественного уровня бессмертного шевченковского стихотворения.
Булат справедливо говорит, что при создании оперы «Тарас Бульба» Лысенко стремился вывести украинскую профессиональную оперу на путь мирового искусства. Особенно интересны в этой связи новые материалы, позволяющие проследить, как формировался героический стиль «Тараса» в предшествовавших ему оперных партитурах, например в «Гаркуше» (1864), задуманной за три года до отъезда его в Лейпцигскую консерваторию, или в «Марусе Богуславке», сочинявшейся в период занятий у Римского-Корсакова (1874).
Следует еще раз подчеркнуть, что введение в научный обиход новых документов и неопубликованных произведений Лысенко позволило автору без натяжек и преувеличений показать большое непосредственное влияние событий революции 1905 года на всю музыкальную и общественную деятельность Николая Витальевича. Подробно анализируется, в частности, созданный в июле 1905 года хор-гимн «Вечный революционер» (на текст И. Франко). На конкретных примерах подтверждается интонационная близость его мелодии русским, польским, французским, украинским революционным песням. Изучая другие произведения композитора, как изданные (на слова Франко, Шевченко) «Ой, що в полі за димове», «На вічну пам”ять Котляревському», так и неопубликованные (на слова О. Олеся) «Три тости», автор с полным основанием указывает на новые интонационно-ритмические средства выразительности, которые появляются в музыкальном языке Лысенко под влиянием пролетарской революционной песенности.
Правдиво и объективно рассмотрены общественно-творческие позиции композитора после разгрома революции 1905 года. Как известно, в прошлых работах о Лысенко ложно утверждалось будто он поддался упадочным настроениям. Булат убедительно доказывает, что композитор до конца дней оставался непоколебимо верным своим демократическим убеждениям. Об этом свидетельствуют его неизданные произведения: хор без сопровождения «Три менти» («Три момента»), сочиненный в 1908 году с мужественным призывом «Всех к оружию», большой хор с сопровождением «Псальма Давидова», написанный на одно из самых революционных произведений Шевченко (43-й псалм «Боже, нашими ушима»), опера-сатира «Энеида», созданная в 1910 году и шедшая с успехом при жизни Лысенко не только в Киеве, но и Петербурге. Усилившаяся в этот период активная общественная работа Лысенко вызвала серьезное беспокойство властей. Как теперь выяснилось, на арест композитора были уже заготовлены документы (они найдены в Центральном государственном историческом архиве УССС), и только внезапная смерть Николая Витальевича в 1912 году помешала царским прислужникам осуществить свое намерение.
Книга «Героико-патриотическая тема в творчестве Н. В. Лысенко» написана с любовью и знанием дела. Она представляет собой значительный вклад в изучение творческой и общественной деятельно классика украинской музыки и заслуживает того, чтобы быть изданной в переводе на русский язык.
Г. Благодатов
Из глубины веков
Книга Н. Успенского «Древнерусское певческое искусство» посвящена истории профессионального хорового пения на Руси — от его возникновения до XVII века, то есть периоду, внешним признаком которого является применение безлинейной нотации.
Художественная ценность древнерусской храмовой архитектуры, иконописи, прикладного искусства давно общепризнана. Киевский и Новгородский соборы св. Софии, Нередица, Успенский собор во Владимире, церковь на Нерли, соборы московского Кремля и многие другие справедливо считаются шедеврами национального искусства. Имена Андрея Рублева, Феофана Грека известны каждому культурному человеку. А вот музыкальное искусство той поры, в частности профессиональное культовое пение, развивавшееся не менее интенсивно, фактически оставалось в тени. В этой связи исследование Успенского представляет особую ценность.
Автор показывает, как древнерусское искусство, иноземное по своим истокам, постепенно обретает свою почву, становится национально самобытным. Убедительно отмечена плодотворная роль в этом процессе народного творчества.
Церковное пение раскрыто как художественная деятельность, игравшая не только ритуально-прикладную роль. Оно имело и самостоятельную эстетическую ценность.
Работа Успенского — плод многолетних изысканий и кропотливого изучения как отечественных, так и зарубежных материалов. Особенно эффективным оказалось привлечение византийских источников, что позволило автору сделать ряд ценных наблюдений. Широта охвата материалов — бесспорное достоинство книги.
Разрабатывая избранную тему, исследователь исытывал немало трудностей, которые усугублялись тем, что в данной области вообще много неясного, источники, особенно в отношении периода Киевской Руси, исключительно бедны. Главное же, что крюковые рукописи до XVII века не поддаются достоверной расшифровке и мы можем только предполать, каковы были в действительности запечатленные в них мелодии. Если при изучении знаменного роспева у нас есть точка опоры в напевах, сохравшихся до XVII–XVIII веков, то о кондакарном пении, исчезнувшем уже в древности, мы не располагаем необходимыми фактическими источниками. Успенский воздерживается делать произвольные догадки и предположения, чем нередко грешили другие исследователи, касавшиеся этих тем, и стремится строить свои суждения на строгом фундаменте фактов. Это придает изложению необходимую достоверность. Порой, однако, это желание Успенского избежать внешне эффектных, но недоказанных суждений приводит к обеднению выводов.
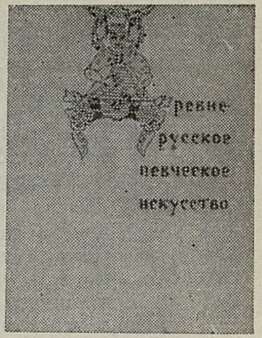
Все же автору удалось нарисовать широкую картину развития церковного пения на Руси и сделать ряд наблюдений. Многие вопросы находят в его работе новое разрешение. К числу несомненных удач относятся сравнительные анализы греческих и русских записей одного и того же песнопения. Совершенно справедливо подчеркивая условный характер безлинейной нотации, которая, подобно западноевропейским невмам, являлась в большей мере лишь средством для запоминания знакомых на слух мелодий 1, автор делает принципиально важный вывод: «Благодаря условности певческих знаков русские мастера пения, пользуясь византийской записью, могли допускать отступления в напевах и свободно творчески их видоизменять и перерабатывать» (стр. 36).
Бесспорно, этот тезис более убедителен, чем мнение А. Преображенского, который, основываясь на тождестве записей, говорил и о тождестве самих мелодий.
Успенский останавливается на изменениях, вносившихся русскими роспевщиками в записи богослужебных напевов. Данное в книге сравнение византийского ирмоса в расшифровке Э. Веллеша и знаменных мелодий очень ясно показывает разницу в строении их напевов. Однако несколько уязвима сама система доказательства, так как при анализе сопоставляются песнопения XII и XVII веков. В самом деле, ничто не мешает допустить, что усвоенные в XI веке мелодии за протекшие до конца XVI века 2 пятьсот лет могли видоизмениться, особенно если учесть отмеченную автором приблизительность самой знаменной нотации. Наоборот, было бы чем-то совершенно невероятным, граничащим с чудом, если бы культовые напевы сохранились в неизменном виде, в то время как остальные области русского искусства — архитектура, живопись, прикладное искусство — претерпели значительную эволюцию.
Отмечая недостаточную строгость аргументации автора, мы тем не менее считаем его точку зрения в целом правильной, в пользу чего можно привести некоторые дополнительные соображения. Достаточно поставить вопрос: существовали ли на Руси условия, которые могли бы обеспечить сохранность византийских мелодий? Ответ придется дать отрицательный. Существенно здесь не то, что греческие напевы были иноземными. История показывает, что в тех случаях, когда иноземное новшество соответствует тенденции развития национального искусст-
_________
Н. Успенский. Древнерусское певческое искусство. М., «Музыка», 1965, 215 стр., тираж 2250 экз.
1 Это обстоятельство заставляет довольно пессимистически оценивать возможность убедительного прочтения беспометных рукописей. Можно ли точно расшифровать то, что не было точно записано?
2 Более ранние рукописи нечитаемы.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Мы твои рядовые, Россия!» 5
- Могучий талант могучего времени. Д. Д. Шостаковичу — 60! 6
- Поздравления из-за рубежа 21
- По следам великого поэта 58
- Бессмертие 63
- Александр Бенуа и музыка 65
- Счастливого пути! 82
- Творить новое 87
- Нарушение воли 93
- Говорят члены жюри 98
- Московские премьеры: «Военный реквием» Бриттена, «Жанна д'Арк на костре» 106
- Гости столицы: Спустя четыре года. 109
- Письма из городов: Тбилиси. Весенние встречи с музыкой 111
- Заслуживший добрую славу 114
- Принципы реалистического мастерства 118
- Ташкент: В часы испытаний 124
- Душанбе: Интересные перспективы 126
- Он победит! 129
- «Мы шьем одежду бойцам» 131
- Оперы Генделя на современной сцене 136
- На музыкальной орбите 141
- Новое о композиторе-демократе 146
- Из глубины веков 148
- Долгожданная публикация 151
- Хроника 153



