«мясистый», что в гениальной Соль-минорной хотелось бы услышать большую насыщенность, большую напряженность чувства, но в целом это был Бах — его характер выразительности, его тембровые сопоставления, его полифония. Несколько бледнее прозвучал ля-минорный Концерт Вивальди-Баха (в транскрипции С. Фейнберга), хотя и здесь было налицо правильное понимание классического стиля.
Что касается второго отделения, то нельзя сказать, чтобы В. Мержанов играл «неправильно»: формально здесь все было на месте, но и только. «Сказки старой бабушки» Прокофьева и «Карнавал» Шумана пианист исполнял с каким-то странным безразличием. И словно выветрился поэтический аромат «Сказок», а в «Карнавале» казалось, что составляющие его миниатюры — «на одно лицо». Они звучали в одном среднем диапазоне звучностей, в едином, несколько торопливом темпе, без ощущения творческой заинтересованности исполнителя.
Куда приятнее горячо поспорить с артистом, чем высказывать ему слова упрека. Но как удержаться от этого, если памятны многие выступления В. Мержанова, в которых он проявлял себя тонким и инициативным художником.
*
А вот, по поводу концерта Т. Николаевой можно поспорить. Прежде чем начать спор, поблагодарим ее за отличное исполнение баховских «Вариаций на тему Гольдберга». Пианисты сторонятся этого произведения, быть может, из-за его внушительных размеров. Напрасно! Надо только проникнуться своеобразием стиля, полюбить изумительную музыку Вариаций, и тогда они не покажутся «длинными». Так было, когда их сыграл Г. Гульд: в большой мере так получилось и в интерпретации Т. Николаевой. Она почувствовала прозрачность фактуры, связи со всем стилем клавесинной музыки, а наряду с этим мощное ваковское начало в Вариациях. Разве только forte было порой не столько по-органному гулко (Бах и в клавесинном стиле не утрачивает своей «органной» приводы), сколько по-фортепьянному жестко. Но все «ажурные» вариации прозвучали тонко, с тщательно и изящно выполненными мордентами, с воздушными серебристыми пассажами, с живым проникновением в сущность музыки.
Спорить с Т. Николаевой хочется по поводу трактовки Бетховена. «Пасторальную сонату» она играет мягко и поэтично, но слишком камерно — будто «действие» этой сонаты совершается не на природе, а где-то в комнате. Бетховен может быть беспредельно лиричным, но он никогда не оказывается «уютным». Даже в нежнейших, углубленнейших страницах его музыки неизменно ощущается гигантский масштаб человеческой личности. «Затуманенные» звучности в первой части «Пасторальной сонаты» сами по себе, может быть, и хороши, но это скорее камерная утонченность, нежели бетховенские размышления. Во второй части Сонаты стоит на волосок ускорить темп — и глубокая серьезность перейдет в легковесную маршеобразность.
Камерность исполнительского замысла превращает страстные жалобы в приятные лирические детали. Смягчение острых акцентов в третьей части нивелирует контраст со второй и в свою очередь сглаживает противопоставление буйного весеннего ликования в менуэте и финальной пасторали. Камерность истолкования бетховенского творчества сказалась и в Аппассионате. И здесь хотелось бы большей страстности в крайних частях, но зато и большего философски созерцательного спокойствия в средней. Crescendo, которое Т. Николаева делает в предпоследней вариации, кажется не только неоправданным, но и ломающим эмоциональный замысел Сонаты в целом.
Т. Николаева играет Бетховена с должной убежденностью. Ее трактовка лишена элемента случайности, она продумана и внутренне осмысленна. Но не теряет ли бетховенская музыка в таком понимании присущие ей масштабы?
*
Польский пианист А. Харасевич обладает изрядной техникой и жарким темпераментом, но его пианистический «атлетизм» вряд ли уместен в шопеновской программе. У А. Харасевича слишком плотный звук, крупные руки всей тяжестью обрушиваются на клавиатуру, отчего интерпретация становится грузной и грубой. Именно так прозвучала Фантазия фа минор. Форсировка звучности проявилась и в Полонезе до-диез минор, и в Первой балладе, и в первой части си-бемоль-минорной Сонаты («сверхмощные» октавы в партии левой руки).
Правда, в том же Полонезе были и мечтательность, и искренняя эмоциональность. Они чувствовались и в Ноктюрне фа-диез мажор. Некоторые из шопеновских мазурок пианист играет поэтично, с изяществом. Видимо, А. Харасевич, обладая хорошими художественными задатками, еще не приводит в согласие с ними свою исполнительскую манеру.
Второй из гастролеров, Ж. Бернан, играет классиков — Баха, Моцарта — в сугубо академической манере, со всеи полагающейся фразировкой, но без особых проявлений творческой индивидуальности. В Шуберте (Соната соч. 120) и Шумане («Бабочки») он несколько романтизировал свою трактовку. Лучше всего удались пианисту Ноктюрн и Экспромт Форэ, а также «Ундина» и «Танец» Дебюсси, сыгранные с известной колористической чуткостью и ритмической остротой.
Флорестан
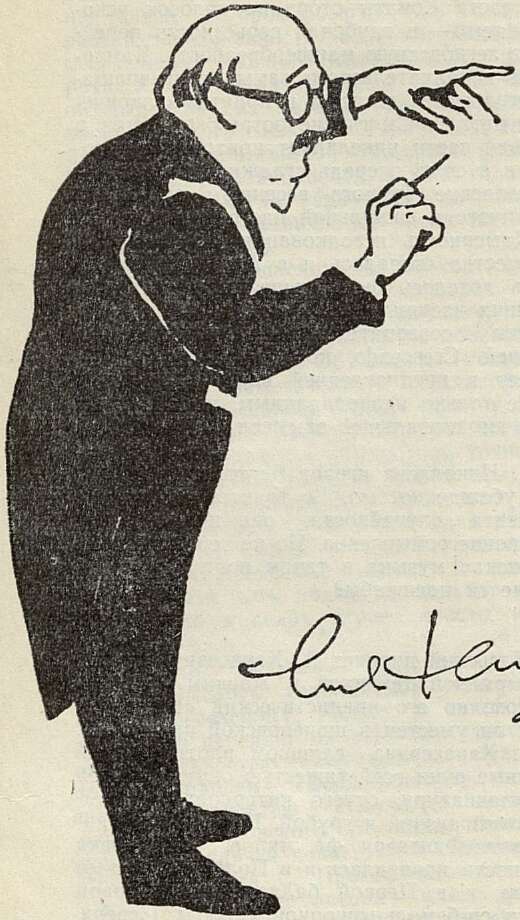
Карло Цекки
Гравюра на лиюлеуме
Худ. Ф. Лейн
Зарубежные дирижеры
Карло Цекки
Цекки — музыкант огромной культуры и безупречного вкуса. Он умеет властно повести за собой оркестр, «выжать» из него максимум возможного. За последнее время в критике порой раздавались упреки в адрес Государственного симфонического оркестра СССР. 12 декабря, когда за пультом стоял Цекки, оркестр играл великолепно — чисто, легко, с безукоризненно тонкой и гибкой нюансировкой. И добился этих результатов дирижер всего за четыре репетиции. Стало быть, данный коллектив имеет все возможности так играть всегда! Другой оркестр — Московской Государственной филармонии — в концерте 16 декабря продемонстрировал необычную для него «ажурность» звучания в Симфонии Гайдна и увертюре к «Шелковой лестнице» Россини, теплоту и сочность кантилены струнных в «Ромео и Джульетте» Чайковского и чудесно сыгранной на бис Арии Баха...
Художественная кульминация всех трех концертов Цекки — исполнение «Фантастической симфонии» Берлиоза. Это была совсем особенная «Фантастическая» — без акцента на трагических взрывах и контрастах двух последних частей, без гигантских и кошмарных, бредовых «видений». Но с какой точностью, пластичностью раскрыл дирижер характерную «театральную» и живописную сущность симфонической драматургии Берлиоза! Симфония была не только сыграна, а будто «выписана» кистью живописца-мастера. Очень трудна для исполнителя музыка вступления к первой части, с его мечтательными «вздохами» и внезапными порывами чувства. Такой выразительности каждой фразы, такой детализированно рельефной передачи музыки этого вступления, да и всей части, мы уже давно не слышали. А чисто французская грация вальса («Бал»), овеянный дымкой меланхолии музыкальный пейзаж третьей части («Сцена в полях») или чеканная упругость марша в «Шествии на казнь»! Исполнители, играющие на литаврах, редко становятся объектами критических рецензий. На этот раз придется, нарушая обычай, сказать, что литавристы Госоркестра артисты П. Шарлов, Р. Никулин, В. Снегирев и Э. Галоян прямо-таки виртуозно провели свою партию в «Сцене в полях» — от эффектных громоподобных crescendo до еле уловимого pianissimo. Отлично прозвучало и соло малого кларнета (артист Н. Гаврилов) в последней части «Фантастической симфонии».
Более спорным, хотя по-своему очень целостным показалось истолкование Первой симфонии Брамса. Здесь тоже покоряла пластичность и естественность фразировки, уменье «распеть» все полифонические детали партитуры. Но если задумчивая сосредоточенность Andante sostenuto, типично брамсовский мягкий юмор третьей части, сочетающийся с лирической задушевностью, или монументальная, эпическая повествовательность были воплощены органично и убедительно, то в первой части хотелось большего драматизма и героического пафоса. Конечно, существо музыки Брамса, прежде всего, — в ее сердечной теплоте, серьезности и глубине мысли, и «героика» у него — совсем не та, что у Бетховена. И все же, в некоторых страницах Брамса, в том числе в первой части Первой симфонии, это — именно героика, высокая и благородная, заставившая современников назвать это произведение «Десятой симфонией Бетховена». А у Цекки, при безупречной стройности подачи формы и пластичности рисунка, и здесь преобладало лирико-повествовательное начало. Наиболее сильное впечатление произвел финал, и особенно момент появления главной темы Allegro — той самой.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Знаменательное десятилетие 5
- Песнь — в боевом строю 9
- О нашей военно-духовой музыке 15
- Несколько мыслей о творчестве белорусских композиторов 20
- А. Спадавеккиа и его опера «Овод» 25
- Третья симфония Н. Пейко 37
- Две сонаты Н. Ракова 42
- Новый квартет М. Марутаева 45
- Размышления о джазе 48
- Годы изгнания 53
- «Мейстерзингеры» и оперная реформа Вагнера 62
- Оперы Вагнера на Петербургской сцене 69
- На оперных спектаклях фестиваля 77
- «Лебединое озеро» в Челябинском театре 82
- «Весна поет» Д. Кабалевского 83
- «Боевое крещение» 87
- Новая армянская опера 91
- Оркестр Ленинградской филармонии 95
- Музыка по телевидению 101
- Из концертных залов 104
- Вологодские частушки 119
- С пленума украинских композиторов 126
- Декада советской музыки Казахстана 128
- О музыкальной жизни Перми 129
- На Дальнем Востоке 131
- В столице Бурят-Монголии 133
- К 80-летию Зденка Неедлы 136
- По поводу некоторых выступлений польских критиков 139
- Священная какофония 144
- Музыка Кубы 147
- Песня, обращенная к сердцу 150
- Советская музыка в Корее 152
- Письмо из Лондона 153
- По страницам музыкальных журналов 154
- Польская газета «Джаз» 157
- На конкурсе вокалистов в Тулузе 158
- «Воспоминания о Рахманинове» 159
- Детям о классиках 161
- Коротко о книгах 162
- Новые пластинки 164
- Хроника 166



