ный сольный инструмент из оркестра «музыки толстых» и использовать богатство его звучания в совершенно иной мелодической сфере (как известно, первоначально саксофон применялся в симфонической музыке; примером может служить «Арлезианка» Бизе). Надо пожалеть, что о таком выдающемся сочинении приходится судить не по подлиннику, а по редакциям для других инструментов.
Концерт задуман как большое одночастное сочинение в сонатной форме, включающее элементы всех частей цикла; в побочной партии есть элементы скерцо, вся разработка до каденции (альт solo) является как бы Andante, реприза же и широко развернутая кода, основанная на развитии главной темы, — блестящим финалом.
Глазунов создал произведение удивительно цельное по замыслу, стилистически единое, светлое и здоровое по своему эмоциональному содержанию. Особый интерес представляет богатейшая полифония концерта, органически вытекающая из самих музыкальных мыслей. Примером может служить фуга репризы, где Глазунов с поразительной легкостью соединяет тематические элементы Andante и побочной партии, а затем на этом фоне проводит главную тему! Нигде на протяжении всего концерта не возникает ощущения преобладания композиционной техники над общим музыкальным содержанием.
Что касается альтовой редакции (И. В. Сафонов), о которой здесь идет речь, то ее следует приветствовать, как пополняющую далеко не обширную художественную литературу для альта. Однако нужно сказать, что сольная партия может быть доступна лишь артисту очень высокой квалификации. Партия альта отличается обилием трудных двойных нот, использованием несвойственного альту очень высокого регистра. В подобных случаях, наряду с основной редакцией, следовало бы давать и облегченную, что способствовало бы более широкому распространению этого превосходного сочинения.
И. Белорусец
Сборник чехословацких песен
Чехословакия — страна давней и высокой музыкальной культуры. На протяжении многих столетий народы Чехословакии создавали свои песни, в которых, как в зеркале, отразился характер народа, самый дух национальной жизни и культуры. Подавляющее большинство народных песен Чехословакии обязано своим происхождением творческому гению безвестных крестьянских поэтов и певцов, выразивших в тысячах простых и задушевных песен ясную и здоровую народную философию, отразивших в высоко поэтических образах мирную жизнь трудового люда, его любовь к родной земле, к ее зеленым лесам и лугам. Радость жизни пронизывает эти песни, посвященные молодой и чистой любви, крестьянскому труду, воспевающие природу. Отсюда — лирический, сердечный тон подавляющего большинства чешских, моравских и словацких песен, сдобренных порой здоровым добродушным юмором.
Оптимизм, стремление к свету, к солнцу, непоколебимая вера в свой народ определяют внутреннее содержание чехословацкого фольклора.
Как же нам не веселиться,
Коль здоровье нам дано! —
Эти слова из первого вступительного хора «Проданной невесты» — самой веселой, самой жизнерадостной и самой национальной из всех чешских опер — как нельзя лучше выражают характер народного искусства Чехословакии, его здоровый оптимизм и жизнеутверждающую силу.
Народы Чехословакии любят и умеют ценить свои песни. На протяжении многих десятилетий композиторы, поэты и этнографы с большой тщательностью собирали и записывали народные песни, изучали их, издавали в многочисленных сборниках. Среди наиболее видных собирателей народных песен — известный чешский поэт К. Эрбен, записавший и издавший в 1868 году вместе с композитором М. Мартиновским свыше 500 народных песен. Множество песен собрал известный чешский художник и исследователь фольклора западных и южных славян Л. Куба. Тысячи обработок народных песен сделали композиторы Л. Яначек, В. Новак, К. Вейс, Ф. Бартош, О. Зих, Э. Аксман, Я. Малат, Вит Неедлый и многие другие.
Народные песни Чехословакии близки по характеру русской и особенно украинской песне. Их объединяют некоторые характерные ладовые черты, а также общая для всех славянских народных песен задушевность и теплота чувств. Поэтому понятна та быстрота, с которой распространяются и завоевывают популярность в Чехословакии русские и украинские песни; понятна также любовь к чешским и словацким песням в нашей стране.
Следует всячески приветствовать инициативу киевского издательства «Мистецтво», выпустившего сборник чешских, моравских и словацких песен в переводе на украинский язык крупнейшего украинского поэта Павло Тычины. Скромный по масштабам (в нем помещены 33 песни в двухголосном изложении, без сопровождения), сборник тем не менее представляет очень большой интерес, как первая удачная попытка приблизить народное музыкальное творчество Чехословакии к украинскому читателю и любителю музыки, познакомить украинских музыкантов с некоторыми образцами музыкальной сокровищницы братских славянских народов.
В рецензируемом сборнике мы находим прекрасные образцы народной лирики. В большинстве
_________
«ЧЕСЬКІ, MOPABCKI ТА СЛОВАЦЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ». Изд. «Мистецтво», Киев, 1950.
своем это поэтические песни о любви, песни-жалобы на злую долю, разлучившую парня с милой; песни обрядовые и трудовые. Великолепным образцом народной поэзии является песня «Якби моя мила», превосходно переведенная П. Тычиной:
Якби моя мила
В лентах вся ходила,
В злоті блискотіла,
То була б вона
Все ’дно не моя.
Я візьму дівчину хоч і бідну,
Зате щиру, славну душу рідну
Синьоока, — як i я,
Ах, як i я! Ах, як i я!
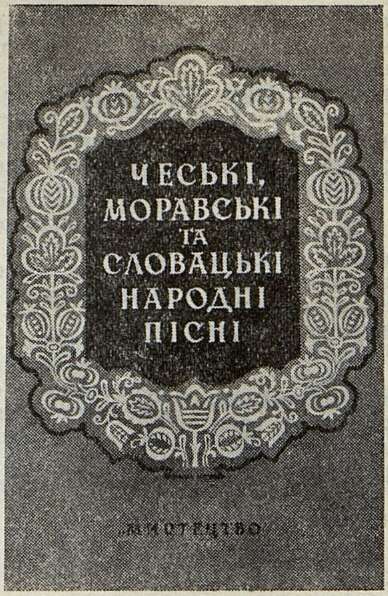
Жизнерадостным настроением проникнуты чешская песня «Браття, браття, будем спивати ми!» и моравская плясовая песня «Музыканти, починайте!». В них дышат радость и веселье, снова напоминающие о первой сцене «Проданной невесты».
Очень выразительна широкая моравская песня «Зашуміли гори», очень близкая по интонационному строению к украинским песням.
Каждая песня сборника представляет интерес, заслуживает внимания. Жаль, однако, что богатейший музыкальный фольклор словацкого народа представлен в сборнике только четырьмя песнями, правда очень хорошими, но далеко не лучшими. Можно было бы назвать много десятков замечательных словацких народных песен, собранных и обработанных В. Новаком.
Нельзя не выразить пожелания, чтобы работа по переводу народных песен Чехословакии, столь успешно начатая П. Тычиной, не была прервана им на этом сборнике, но продолжалась бы и далее. Хочется привлечь внимание и других украинских, русских и белорусских поэтов к этой благодарной и увлекательной работе. Музгиз должен проявить здесь необходимую оперативность и выпустить в свет образцы музыкального творчества народов стран народной демократии в переводах лучших советских поэтов.
Г. Михайлов
Важная тема
Летом 1947 года, выступая на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», А. А. Жданов сказал: «Кому же, как не нам — стране победившего марксизма и ее философам, — возглавить борьбу против растленной и гнусной буржуазной идеологии, кому, как не нам, наносить ей сокрушающие удары!»1
Нет сомнения, что обращение это относилось не только к философам в собственном смысле этого слова, оно относилось и относится ко всему советскому идеологическому фронту, в том числе и к советскому музыкознанию. Однако советские музыковеды еще мало делают для того, чтобы разоблачить маразм музыкальной «культуры» Запада, отравленной ядом буржуазного космополитизма и человеконенавистничества.
Между тем, подобное разоблачение принадлежит к числу серьезнейших задач советского музыкознания. Современный западноевропейский модернизм в музыке, так же как и в других областях искусства, имеет вполне определенную политическую подоплеку. Международная реакция щедро финансирует любые уродства, любые патологические явления в искусстве, если они действуют одурманивающим образом на человеческую психику, калечат ее и делают неспособной к социально полноценной жизни. Так, например, католик Мессиан, пишущий музыку «не от мира сего», пользовался и пользуется поддержкой и немецких фашистов, и французских предателей, и английских «эстетов», и австрийских торгашей из «Универсального издательства», и американских «меценатов», и ватиканских выродков только потому, что его мистическая стряпня имеет целью отвлечь внимание слушателей от социальных проблем. И в то же время прогрессивные деятели культуры подвергаются ожесточеннейшим преследованиям во всех странах, опутанных долларовой паутиной, ибо произведения передового, реалистического искусства активизируют человечество в его борьбе за мир и демократию.
Разоблачая маразм современного американского и западноевропейского буржуазного «искусства», деятели советской культуры помогают крепнущим во всем мире силам прогресса противостоять стремлениям долларовой плутократии превратить все области современного искусства в страшные «зоны пустыни», в очаги мракобесия, проповедуемого в самых различных видах и формах.
Вот почему каждое выступление против маразма, насаждаемого во всех областях буржуазного искусства, является выступлением в защиту культурных завоеваний человечества, в защиту мира во всем мире. Вот почему советские музыковеды должны стремиться к тому, чтобы до конца разоблачить маразм музыки современного Запада.
Первой советской книгой, посвященной подобному разоблачению, явилась книга В. Городинского «Музыка духовной нищеты»2 .
_________
1 «Вопросы философии», 1947, № 1, стр. 271.
2 В. Городинский, Музыка духовной нищеты. Государственное музыкальное издательство, 1950. Стр. 136, цена 6 руб.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Музыка в борьбе за мир 3
- Памяти Н. Я. Мясковского 7
- Добиться перелома в работе концертных организаций 8
- За революционное новаторство в оперном жанре 15
- Опера и современность 18
- Песни нашего времени 30
- Иоганн Себастиан Бах 37
- О специфике музыки 44
- Русские народные песни Ленинградской области 50
- Казахские советские народные песни 54
- О пропаганде советской музыки 58
- Заметки музыкального лектора 61
- Об издании русских революционных песен 62
- Научная работа консерваторий 63
- Первые результаты перестройки 67
- На верном пути 68
- Возродить музыкально-педагогическое училище 69
- Больше внимания музыкальным училищам 70
- 30-летие Детской музыкальной школы гор. Бабушкина 71
- В Уральской консерватории 72
- Музыкальная жизнь 73
- А. Э. Маргулян 85
- Выдающийся представитель русской вокальной школы (К 75-летию со дня рождения В. Р. Петрова) 87
- С. М. Ляпунов 90
- Письма М. А. Балакирева к С. М. Ляпунову 94
- Композиторы идут с народом 96
- Зарубежная хроника 101
- Нотография и библиография 102
- По следам наших выступлений 109
- Музыкальный календарь 111



