Памяти М. А. Бихтера
С. ЛЕВИК
Сын оркестрового музыканта, Михаил Алексеевич Бихтер родился в Москве 23 апреля 1881 года. В 1894 году он поступает в Петербургскую консерваторию по классу фагота, но вскоре переходит в класс пианиста фан-Арк. Через год фан-Арк умирает, и «мальчика с выдающимися пианистическими руками» берет к себе А. Н. Есипова. Переезды родителей, а чаще всего жестокая нужда нередко перебрасывают Бихтера из города в город и ему удается окончить консерваторию только в 1910 году. В консерватории он проходит теоретические предметы у А. К. Лядова и Н. Ф. Соловьева, инструментовку у А. К. Глазунова, а затем у М. О. Штейнберга, историю музыки у Л. Саккети, дирижерское искусство — у Н. Н. Черепнина; в «тайны» аккомпанемента его посвящает И. Витоль.
В студенческие годы М. А. совершает большое концертное турне со знаменитым скрипачом Иоахимом. Тот остается очарованным его игрой и «ансамблистским» увлечением.
Пианистическая техника Бихтера никогда не поражала внешним блеском; но, завуалированная в моменты совместного исполнения, она сплошь и рядом прорывалась в интерлюдиях таким молниеносным сверканием, что немедленно вырастал вопрос: почему же Бихтер вообще только аккомпаниатор, а не солист-виртуоз? Чисто тембровые, инструментально-красочные ассоциации уносили слушателя в мир как будто никогда не слыханных звучаний. До Бихтера ни я, ни мои сверстники такого порядка изобразительности не слыхали. И при всем том Бихтер никогда не выступал на эстраде концертантом-солистом.
Как ансамблист, Бихтер уже в консерваторские годы резко выделялся не только среди студентов, но и среди профессоров. Уже тогда он стал вырабатывать в себе ту высокую культуру и дисциплину виртуоза-ансамблиста, которая дала повод А. В. Оссовскому, отлично помнящему игру Антона Рубинштейна, на похоронах Бихтера отметить, что он (Бихтер) «...создал новый стиль исполнения романсов и песен, понимаемый как камерный вокально-инструментальный ансамбль, где пианист является сотворцом и другом солиста, его вдохновителем, его художественным руководителем... Так понимал свою задачу пианиста-ансамблиста и великий Рубинштейн... И вот каждое выступление Бихтера непроизвольно воскрешало в памяти образ Антона Григорьевича...»
Окончив консерваторию с золотой медалью, Бихтер навсегда отказался от карьеры пианиста-солиста и, влюбленный в человеческий голос, стал искать общения с певцами. Его первые выступления с Н. И. Забелой-Врубель обращают на него внимание Ф. И. Шаляпина. Шаляпин не только привлекает Бихтера к выступлениям в своих концертах, но и приглашает его для совместной работы над изучением только что написанной для Шаляпина оперы Массне «Дон Кихот». В промежутках между страницами «Дон Кихота» Бихтер проигрывает Шаляпину некоторые незнакомые тому романсы Римского-Корсакова. Проигрывает и поет. Необходимо отметить, что пел Бихтер тоже неповторимым образом.
Страдая хроническим катаром горла и обладая каким-то необычным, сиплого тембра, но богатым обертонами голосом, которым он мастерски владел, Бихтер не стеснялся никакой тесситурой. От «Ковки меча» из «Зигфрида», исполнявшейся им со стихийным темпераментом, со всесокрушающим грохотом и звоном наковальни в собственном аккомпанементе до еле уловимого шепота в романсе Римского-Корсакова «Редеет облаков летучая гряда...», от пляшущих хоров из 3-го акта «Мейстерзингеров» до задумчиво-мечтательного «Жаворонка» Глинки, — он пел все с одинаково покоряющим вдохновением.
Встреча и работа с Шаляпиным укрепляют Бихтера в осознании своего предназначения. Шаляпину Бихтер остался благодарен на всю жизнь за то, что, как он пишет в «Телеге жизни»1 Шаляпин показал ему, что «звук — это живой материал для выражения живых чувств», что звук определяет «концепции характеров, поэтические образы», и дал ему «почувствовать выразительные краски русской речи и музыкальную сущность русского пения». До предела увлеченный открывшимся ему миром, Бихтер обращается к опере.
_________
1 «Телегой жизни» (Пушкин) М. А. Бихтер назвал свои дневники. Все приведенные цитаты взяты оттуда.
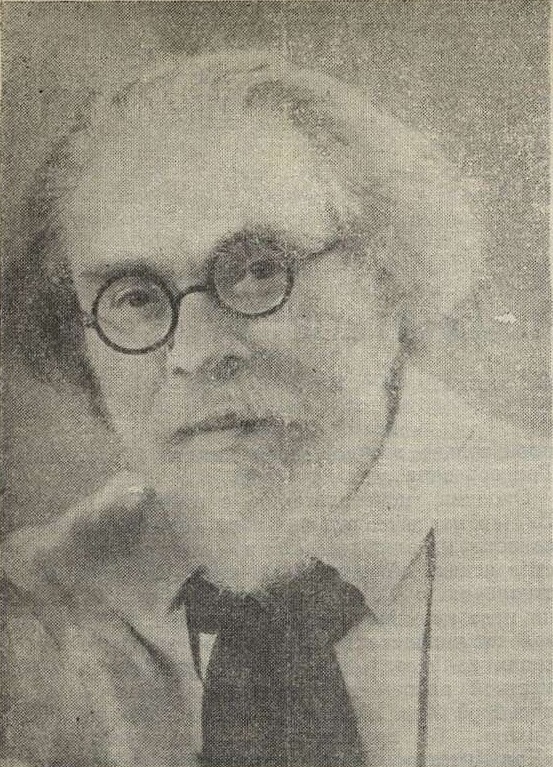
В 1912 году рождается передовой для своего времени Театр Музыкальной драмы. Создатель театра И. М. Лапицкий, — смелый новатор, — подслушав занятия М. А. Бихтера с Е. Ф. Петренко, не задумываясь, поручает ему музыкальное руководство новым театром; Бихтер начинает работать в театре и как дирижер. Придя в Театр Музыкальной драмы, Бихтер принес с собой атмосферу благоговейного отношения к театрально-музыкальной работе. Он проходил партии не только с каждым солистом; он и с оркестром репетировал не только по отдельным группам, но и по пультам. С хористами или, как их впервые стали именовать в театре, с «артистами хора», он проходил партии врозь, затем сводил их в квартеты, октеты и так дальше. Стараясь раскрепостить хор и солистов от палочки дирижера, он проводил репетиции в положениях, при которых хор находился к нему спиной.
Путем огромных усилий преодолевал он и косность исполнителей, и противодействие оркестрантов, встававших на защиту тех самых традиций, которые Бихтер называл «капельмейстерскими консервами».
После нескольких месяцев упорного труда он показал своего «Онегина». Никогда не изгладится в памяти впечатление от первой мизансценной репетиции первой картины «Онегина», которую И. М. Лапицкий вел под аккомпанемент Бихтера и в соответствии с его музыкальной концепцией оперы. Бихтер раскрывал в первой картине душу Татьяны, смятенную страданиями знакомых ей по прочитанным романам героев. Меланхолический темп и дымчатый флер дуэта «Слыхали ль вы» и такое же исполнение дуэта «Привычка свыше нам дана», где каждая нота звучала как воспоминание постаревших людей о днях, для них давно минувших, создали у слушателей буквально благоговейное настроение.
Генеральная репетиция «Онегина» вызвала яростные споры в публике и в печати. Василий Ильич Сафонов дружески похлопал Бихтера по плечу и сказал: «Если так пойдет у вас дальше, молодой человек, будет хорошо».
Модест Ильич Чайковский долго благодарно жал руку Бихтера и сказал ему дословно следующее: «Вы мне поверьте, я люблю Петю; он мне часто играл "Онегина". Ваше исполнение очень близко к тому, как он мне играл...»
Через короткое время после этого Модест Ильич одно из писем к И. М. Лапицкому закончил таким абзацем: «Жалею, что Петр Ильич не мог увидеть и услышать это исполнение, столь близкое его мечтам и намерениям...»
А некоторые рецензенты в это же время резко критиковали Бихтера за необычную, слишком свободную, нетрадиционную трактовку оперы.
За «Онегиным» последовали «Борис Годунов», «Снегурочка» и другие оперы. Параллельно шли камерные концерты. И всегда и везде им сопутствовало одно и то же: преклонение вперемежку с бранью.
Между тем огромный интерпретаторский талант Бихтера не позволял ограничивать его артистический полет указаниями силы и скоростей только потому, что в нотах есть пометки, достоверность которых почти всегда можно брать под сомнение. Само собой понятно, что при таком свободном разрешении исполнительской задачи, подавляющее большинство произведений под его пальцами теряло те исполнительские штампы, которые им неизменно сопутствовали. Произведение становилось неузнаваемым, как будто новым. Это достигалось, в первую очередь, своеобразным применением темпов, в большинстве случаев несколько замедленных. Бихтер всегда умел своеобразно истолковать произведение, своеобразно воспринять его содержание, идею. Отсюда появлялась такая акцентуация ритмического рисунка, которая многими воспринималась как некое извращение его. Внезапное ritenuto на двух-трех нотах, неожиданная воздушная пауза иногда сбивали с толку даже опытное ухо. Слушателю, знавшему наизусть исполняемое произведение, часто могло показаться, что Бихтер его просто переделал. Может быть, тут не последнюю роль играл и самый пианизм Бихтера, который богатством своей тембровой окраски создавал словно какие-то слуховые иллюзии. Нелюбовь Бихтера к «роскоши» фортепианной техники ради техники, его «скупая педаль» (по выражению Черепнина) придавали звучанию его рояля исключительную и непривычную прозрачность.
Без малого сорок лет автор этих строк слушал и упивался бихтеровским сопровождением певцам. И должен засвидетельствовать, что всё свое вдохновение, весь трепет своего музыкального горения, весь запас своего дружественного
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Задачи журнала «Советская музыка» 3
- Адвокаты формализма 8
- О русской песенности 22
- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31
- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44
- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57
- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63
- Памяти М. А. Бихтера 67
- В Московском хоровом училище 70
- Народная русская певица О. В. Ковалева 74
- М. А. Юдин 77
- Литовский композитор Иозас Груодис 79
- Хроника 80
- Дружеские шаржи 89
- По страницам печати 93
- Нотография и библиография 102
- В Северной Корее 106
- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111



