Такой пассивно-описательный метод в расположении материала создает необычайную статику второй части симфонии, музыка которой не вышла из круга обычной «пасторальной идиллии».
Финал симфонии трактован композитором в виде концертного дивертисмента. И здесь он пользуется чисто описательным методом интерпретации песенного фольклора в рамках ординарной ученической схемы.
Музыкального образа в итоге не возникает, ибо музыкальный «репортаж» из песенного фольклора, даже весьма добросовестно инструментованный, не может заменить отсутствующую музыкальную концепцию.
Попытки преодолеть традиции с помощью тех или иных формально-технических экспериментов, как это имеет место в симфонии Веприка, или просто «обойти» ее, как мы это наблюдаем в 6-й симфонии Шостаковича, ни в какой мере не исчерпывают всей сложности взаимоотношений советского композитора с классическим наследием.
Сплошь и рядом академический пиэтет того или другого автора к музыкальному наследию перерастает в прямую зависимость его от музыкальной стилистики и технологии мастеров прошлого.
Некритическое «приятие» чужой манеры письма порождает музыкальное подражательство и копирование, ограничивая идейный кругозор, связывая творческую инициативу автора.
Академическая ученость очень полезна, когда речь идет о знании средств художественной выразительности, необходимом для достижения определенных художественных целей. Чем глубже эти знания, чем обширнее эрудиция композитора, тем свободнее он чувствует себя в решении технических и стилистических проблем, встающих в процессе его работы. Более того, подлинное новаторство невозможно в музыкальном искусстве без обширного профессионального опыта, глубоких знаний в своей области.
Но неправильно было бы механически переносить выработанные в прошлом приемы исторически сложившегося музыкального стиля в творческую лабораторию советского композитора, работающего над поисками новых образов, выражающих внутренний мир социалистического человека.
Исполненная на декаде симфония украинского композитора М. Гозенпуда (написанная в 1938–1939 гг.) кажется нам весьма симптоматичной именно как проявление эпигонства в советском симфоническом творчестве. «В своем произведении я не стремился к звукоизобразительности и иллюстративности, — говорит композитор,— не стремился к внешним эффектам. Мне хотелось простым и ясным языком сказать о внутреннем мире нового человека».
Если бы мы не прочли этого высказывания, датированного 1939 годом, а только прослушали музыку симфонии, то дату ее написания можно было бы искать где-нибудь около 1910 года. Музыкальный язык Гозенпуда не выходит здесь за пределы стилистических приемов Скрябина среднего периода и чисто эпигонского использования приемов русской симфонической школы (Глазунов, Балакирев).
Первая часть симфонии открывается торжественно звучащим вступлением медных инструментов, несколько напоминающим аналогичное вступление к 3-й симфонии Скрябина1. Эта музыка воспринимается как своеобразная метафора, изображающая в чисто симфоническом плане силы, стоящие над человеком (космос, природа):
_________
1 Даже инструментовка этой темы сделана так же, как во вступлении к скрябинской «Божественной поэме».
Прим. 15
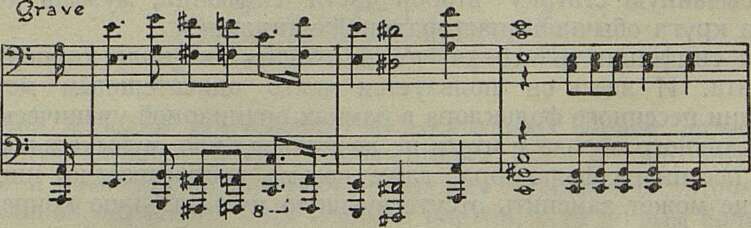
Первая тема Allegro — полетная, стремительная — проникнута томлением, острым, нервным подъемом, почти экзальтацией. Неустойчивые гармонии, хрупкая трепетная ритмика и изломанная «кривая» тематического развития, тщетно стремящегося к кульминации, — как все это напоминает опоэтизированный мир образов Скрябина среднего периода:
Прим: 16
Allegro
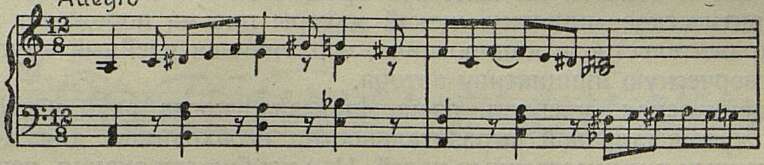
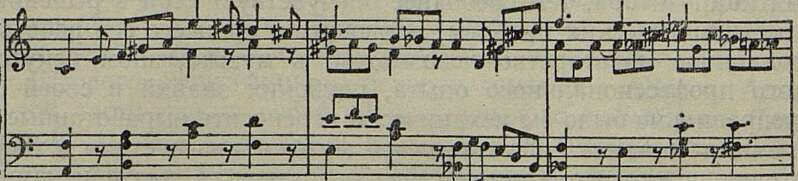
Вторая тема своими баюкающими ритмами, утонченными сплетениями голосов и феерической красивостью звучания оставляет слушателя в мире созерцания, не чуждого чувственной неги. Местами эта оранжерейно-тепличная музыка стоит на грани банального:
Прим. 17
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину 7
- Советские композиторы — товарищу Сталину 9
- «Орел» — из поэмы для хора, солистов и оркестра 10
- Образ народного счастья 16
- Песни о вожде 40
- Великий гражданин Советской страны 46
- Третья декада советской музыки 48
- После декады 51
- Новые симфонии 60
- О советском романсе 77
- Пятый квартет Н. Мясковского 81
- И. Дзержинскому и Т. Хренникову. Дружеский шарж 85
- «За жизнь» — опера В. Трамбицкого 86
- Музыкальная жизнь Бурят-Монголии 95
- На Всесоюзном конкурсе эстрады 98
- О некоторых вопросах музыкального образования 101
- Памяти Геннадия Воробьева 106
- По страницам зарубежной музыкальной прессы 108
- Советские композиторы — к 60-летию товарища Сталина 110
- Декада советской музыки 111
- Над чем работают советские композиторы 112
- Алфавитный указатель статей и материалов, помещенных в журнале «Советская музыка» за 1939 г. 113



