ценностей прошлого, а равно и иллюстративно-изобразительная сторона балета, никоим образом не должны заслонять перед композитором идею его произведения, яркий показ классовых взаимоотношений фламандского общества, на фоне которых и развертываются «веселые похождения» бросающего вызов этому обществу проказливого героя Шарля де Костера. В еще меньшей степени приемы жанрового портрета и характеристики могут стать самоцелью работы композитора, на наш взгляд идущего не всегда критически за Стравинским, Григом и другими мастерами музыкально-жанрового (бытового — Григ, сатирического — Стравинский) портрета.
Под этим углом зрения следует подойти и к самому сценарию балета, в котором намеченная линия межевания классовых взаимоотношений фламандского общества (бюргеры, аристократия, духовенство, испанские завоеватели) далеко не всегда убедительно развернута и, несмотря на излишнюю детализацию, явно недостаточна для обрисовки двойного гнета (общенационального — испанцев и собственного — духовенства и аристократии), подавляющего Фландрию XVII в. Здесь, может быть, следовало бы развить мотив эксплуатации испанцами народа и создать драматический эпизод, где эта тема прозвучала бы достаточно убедительно. Сюжетно подготовленный, этот эпизод с музыкальной стороны был бы пронизан той глубокой внутренней правдой выражения, за которой в искусстве всегда стоит продуманная и прочувствованная идея борющихся социально-угнетенных масс. Нам представляется, например, возможным создать эпизод, в котором вооруженный отряд испанцев при обыске семей повстанцев требует оружия и идет на провокацию, обещая отпустить арестованных заложников, — ситуация, прекрасно использованная Горьким в «Матери» и образцово воплощенная Всеволодом Пудовкиным в одноименной картине. Но пусть осуществление этих возможностей останется за либреттистом и композитором, проявившими столь удачную инициативу в выборе благодарного и яркого сюжета. В их возможностях создать культурный и ценный спектакль. Пожелаем им успеха.
«Карусель» Д. Мелких (ор. 27), названная автором симфоническим плакатом для оркестра, представляет собою несомненно оригинальное произведение. Оригинальный замысел — дать галерею звуковых сатирических портретов-карикатур на ряд отрицательных типов, которые еще не перевелись в советской действительности — выполнен здесь с несомненным мастерством. Ряд остроумнейших оркестровых характеристик, сделанных с ювелирной тщательностью, в чрезвычайно тонкой и гибкой инструментальной оправе, впечатляют как хорошо выполненная гравюра. Композитор как бы развертывает перед нами длинный свиток, на котором зарисованы отдельные типы. За вступлением, энергичным, фанфарным, маршевым идут «пустозвоны-хвастуны», благодушно-глупые (тема струнных — 6–9 парт.) с иронической темой у кларнета:
Прим. 3. Пустозвоны-хвастуны
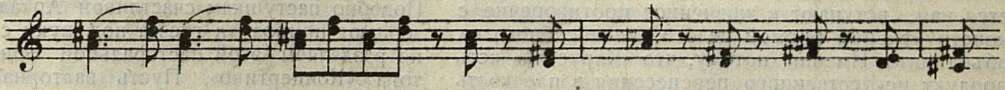
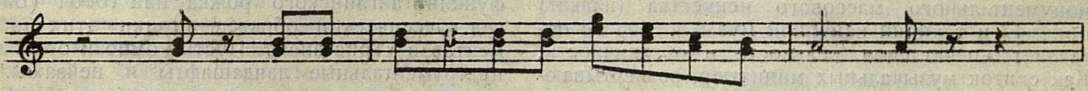
Далее идет двурушник, обрисованный балаганно-петрушечной «темкой» (появляющейся у фортепиано):
Прим. 4. Двурушник
Твердолобый «методист» охарактеризован тупым мотивом, топчущимся на месте (яркая краска — труба с сурдиной):
Прим 5. Твердолобый методист
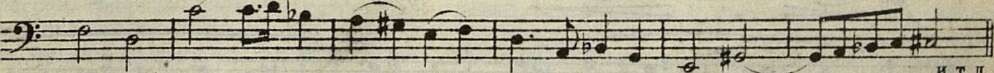
за ним идут — горе-работник, подхалим, податливый «дипломат». Вот появилась старая барыня на вате, данная к нашему удивлению лирично и почти без иронии — прямо, симпатичная старушка
получилась! Интересно знать, входило ли это в намерения композитора? — Яркий темпераментный «кадр» — бузотеры. Иронический вальс (саксофон, арфа) обрисовывает «гражданина с золотой улыбкой». Злопыхатель и рвач, с его запыхавшимся, порывистым, как бы страдающим одышкой движением, заканчивают этот «свиток портретов». Заключительное звено — «карусель-вход» — рисует групповой портрет всех этих «героев». В музыке этого номера слышится что-то оргиастическое: взвизгивают скрипки, саксофон, грохочет большой барабан, ревет медь.
«Карусель» в творчестве Мелких является несомненно шагом вперед и свидетельствует о стремлении композитора подойти к проблемам советской тематики. Нельзя не приветствовать этот сдвиг композитора, мастерство которого известно нам по ранним его работам («Ариадна»).
Спорным является перенесение композитором в область крупной симфонической формы (симфонического плаката) приемов музыкальной миниатюры и неизбежно связанного с ней камерного языка, предполагающего совершенно иные функции. Музыкальная ткань, рассчитанная на интимное вслушивание в сложную сеть инструментальных узоров, получает совершенно иной смысл, когда ее переносят в условия большого симфонического полотна, где масштабы самого музыкального организма, его пропорции, соотношения его образующих членов совершенно иные. Плакат нельзя делать методом детализированной в мелочах гравюры или станковой картины. Цельность восприятия поставлена под угрозу. Во всяком случае, одиннадцать характеристик и две концовки, т. е. тринадцать номеров, идущих подряд и написанных в жанре камерной музыки, думается нам, вступают в жизненное противоречие с конструктивной формой целого, неспособного их объединить. Именно потому, что «Карусель» есть продукт искусственного перенесения в плоскость монументального массового искусства (плакат) приемов и техники камерной музыки, она не оставляет впечатления цельности и органичности. Как свиток музыкальных миниатюр, развертывающихся, наподобие японских пергаментов с рисунками, во времени, она рельефна и выпукла. Как симфонический плакат она имеет неудачную конструкцию.
Ошибочным, на наш взгляд, явилась проявленная композитором непоследовательность в отношении музыкального языка. Язык «Карусели», несмотря на ряд удачных тем, сбивается на кабинетную, а не плакатную массовую музыкальную речь. Использование песни «Провожала меня мать» (ее припев: «Без тебя большевики обойдутся»...) не меняет дела. Да следует сказать, композитор и здесь остался непоследовательным в осуществлении своей массовой установки на плакат и «перемудрил» с чрезмерно сложной модификацией песни, так что ее трудно узнать.
Указанные нами дефекты не меняют общей оценки произведения. Сама мысль создать яркий, хлесткий инструментальный плакат — верная, нужная мысль. Ее следует подхватить и другим нашим композиторам.
Концертино для валторны и малого оркестра Шебалина по своему языку и характеру относится к тому типу инструментальной лирики, которая прозвучала у композитора с особенной силой во 2-й симфонии (1928). Камерная замкнутость образов, интимность и индивидуалистическая самоуглубленность языка — вот основное в этом произведении, написанном с утонченным мастерством. Статичность образов, коренящаяся в аморфности ладовой сферы и в вялой линии мелоса, чуждого энергии и целеустремленности, сочетаясь с утонченной звукописью рисунка, придает этой музыке характер инструментального лирического ландшафта. Партия валторны в первых двух частях смахивает на вольную импровизацию на фоне буколического пейзажа. Эта музыка своим эмоциональным складом наводит на мысли о людях, которые отказались от всяких забот о жизни, от усилий и стремления что-либо делать. Им чужды страсти, им чужда героика. Подобно пастушкам счастливой Аркадии, они созерцают природу и грезят под звуки свирели. Мы не разделяем этой пасторальной ориентации автора «Концертино». Пусть валторна выполняет функции английского рожка или гобоя (Вагнер дала классический образец лирики этих инструментов в «Тристане»). Пусть композитор создает инструментальные ландашафты и пейзажи. Но для этого вовсе не следует рассматривать мир с точки зрения индивидуалистической робинзонады и создавать вещи, понятные для очень немногих, «избранных». Витиеватый и мудреный язык, на котором разговаривает композитор со своей аудиторией, мешает ему выразить подчас даже, может быть, и верные и нужные мысли:
Прим. 6. Allegro moderato
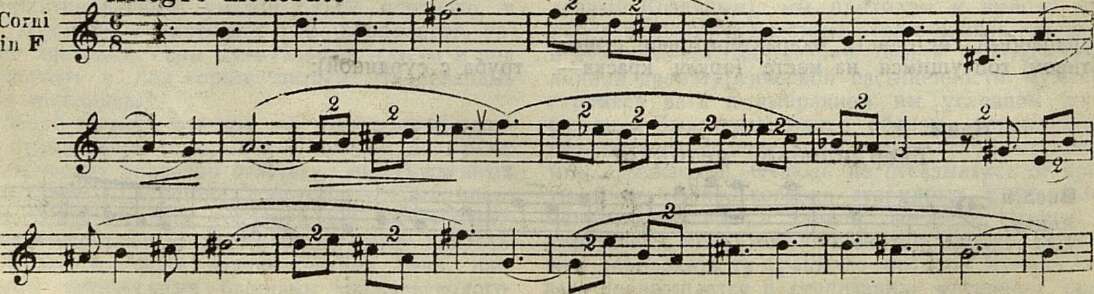
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- От редакции 5
- На путях конкретной музыкальной критики 6
- О реализме в музыке 15
- К проблеме анализа музыкального произведения 26
- К проблеме советского симфонизма 31
- К итогам первого тура конкурса на массовую песню 47
- Музыкально-технологические дисциплины сегодня и завтра 55
- Ленинградский союз советских композиторов 63
- Ленинградские оперные театры 67
- Концертная жизнь Ленинграда 71
- Массовая музыкальная работа в Ленинграде 74
- Музыкальное образование детей в Ленинграде 76
- Хроника 80
- Вечер творческого показа советских композиторов 81
- Концерт из произведений Сергея Прокофьева 87
- Польская музыка в Москве 91
- Ева Бандровская 93
- Я. Хейфец 94
- Концерт Веры Смысловой 97
- Работа Творческого сектора ССК и его секций за март-апрель 1934 г. 97
- Сатирикон. Содружество ленинградских композиторов 100
- Произведения Давиденко за рубежом 101
- США 102
- [Интересный метод пропаганды камерной музыки...] 102
- [Федор Шаляпин принял приглашение...] 103
- Германия 103
- [В Германии сильно изменился репертуар...] 103
- Франция 104
- [25 марта в Париже состоялся большой концерт...] 104
- [В Париже основано в память С. Дягилева...] 104
- Италия 104
- [Альфредо Казелла - официальный вождь...] 105
- Англия 105
- Бельгия 105
- Швеция 105
- Швейцария 106
- Венгрия 106
- Палестина 106
- [Получены сведения...] 106
- [Умер Т. Рикорди...] 106



