ства, о его призывах к народности искусства, защиту им русского классического наследия от наскоков пролеткультовцев; вспомним совещания при Агитпропе ЦК ВКП(б) по вопросам музыки в 1925 и 1929 годах, в разгар деятельности Ассоциации современной музыки, постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций, статьи газеты «Правда» — Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь», в 1936 году; наконец, постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая жизнь», о репертуаре драматических театров, принятые в 1946 году. Мы не можем точно так же пройти мимо выступления товарища Жданова на философской дискуссии в июне 1947 года и, прежде всего, мимо одного из основных тезисов его выступления: тезиса о непримиримости борьбы за чистоту советской идеологии, как наиболее передовой и прогрессивной в мире.
В ряде указаний ЦК ВКП(б) по вопросам искусства постановление об опере В. Мурадели «Великая дружба» имеет особенно большое значение для судеб развития советской музыки. Это постановление наносит решительный удар по антинародному формалистическому направлению, распространившемуся в советской музыке. Оно наносит сокрушительный удар по модернистическому искусству в целом.
Одновременна это постановление направляет советскую Музыку на реалистический путь, связанный с освоением и развитием лучших традиций музыкальной классики и музыкального творчества народов СССР, на путь создания подлинно-демократического искусства, которого ждет от своих композиторов советский народ.
ЦК ВКП(б) указывает в своем постановлении, что формалистические извращения, антидемократические тенденции нашли свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Г. Попов, Н. Мясковский, В. Шебалин и др. Речь идет о возрождении в творчестве этих композиторов антиреалистическпх, декадентских влияний, направленных на ниспровержение принципов классической музыки. Эти стремления характерны для ряда буржуазных течений искусства эпохи империализма: отказ oт мелодичности музыки, игнорирование зональных форм, увлечение ритмическими и оркзстровыми эффектами, нагромождение крикливых, режущих слух гармоний, намеренная алогичность и аэмсциональность музыки. Все эти тенденции на деле приводили к ликвидации музыки как одного из наиболее сильных выразителей человеческих чувств и мыслей.
В советской музыке, особенно в последние три-четыре года, стал всё более явственно обнаруживаться разрыв между слушателем и музыкальным творчеством. Показателен в этом смысле факт провала у публики большинства произведений, написанных композиторами в последнее время: Мурадели — «Великая дружба»; Прокофьева — «Праздничная поэма», кантата «Расцветай, могучий край» и 6-я симфония; Мя-
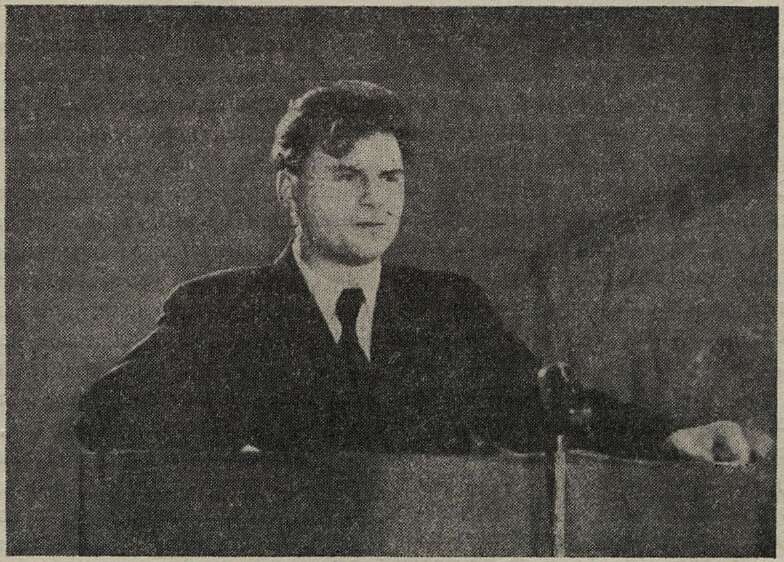
Генеральный секретарь ССК Т. Н. Хренников
сковского — «Патетическая увертюра и кантата «Кремль ночью»; Шостаковича — «Поэма о Родине»; Хачатуряна — «Симфония-поэма» и другие.
В творчестве большинства советских композиторов наблюдается засилие чисто абстрактных инструментальных жанров, что было совершенно не характерно для русских классических музыкальных направлений, нежелание писать программную, сюжетную музыку на конкретные темы советской жизни. Преувеличенное внимание стало уделяться камерной музыке, рассчитанной на горсточку знатоков, при полном пренебрежении к такому массовому доступному жанру, как опера.
Композиторы стали увлекаться формалистическими исканиями, искусственно раздутыми, несуществующими в практике оркестровыми комбинациями (включение 24-х труб в «Симфониипоэме» Хачатуряна или невероятный ансамбль из 16 контрабасов, восьми арф, четырех роялей с выключением остальных струнных инструментов в «Оде» С. Прокофьева). Такая музыка не могла быть исполнена ни одним из периферийных оркестров; а парадное исполнение ее в столичной филармонии вызвало лишь недоумение слушателей неоправданностью использования оркестровых средств, а порой и физическое страдание. Музыкальные инструменты применялись не в той роли, для которой они предназначены. Так, рояль превращался в ударный инструмент (удары кулаком по клавиатуре в 6-й сонате С. Прокофьева), скрипка из певучего, нежного инструмента превращалась в инструмент хрипящий и стучащий. Ясность и логичность гармонических последований приносились в жертву произволу и нарочитой усложненности звуковых комбинаций, естественные аккорды превращались в «звуко-тембры», в звуковые пятна и кляксы.
Своеобразная зашифрованность, абстрактность музыкального языка часто скрывала за собой образы и эмоции, чуждые советскому реалистическому искусству, экспрессионистическую взвинченность, нервозность, обра щение к миру уродливых, отталкивающих, патологических явлений. Этим страдали многие страницы 8-й и 9-й симфоний Д. Шостаковича, фортепианных сонат С. Прокофьева. Одним из средств ухода от действительности являлись также «неоклассические» тенденции в творчестве Д. Шостаковича и его подражателей, — воскрешение интонаций и приемов Баха, Генделя, Гайдна и других композиторов, воспроизводимых в декадентски-искаженном духе.
Народное музыкальное искусство и, в первую очередь, русская народная песня не были в почете у перечисленных выше композиторов. Если они и обращались иногда к народным мелодиям, то обрабатывали их в усложненной декадентской манере, не свойственной природе народного искусства (симфония № 3 Г. Попова на испанские темы, некоторые обработки русских народных песен С. Прокофьева).
Перечисленные выше творческие пороки явяются ярким выражением формализма.
Формализм есть всяческое проявление бессодержательности, безидейиости в искусстве. Отказ от идейности в искусстве приводит к проповеди «искусства для искусства», к культу «чистой» формы, к культу технического приема как самоцели, к гипертрофии отдельных сторон музыкальной речи за счет потери целостности и гармоничности искусства.
Характерными признаками формалистической музыки, как говорит Постановление ЦК, являются «...отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии, являющихся якобы выражением «прогресса» и «новаторства» в развитии музыкальной формы, отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков». В связи с этим я хотел бы привести мысли, высказанные товарищем Ждановым в его выступлении на совещании в ЦК, о том, что новаторство не является самоцелью; новое должно быть лучше старого, новатор должен точно знать, от чего он отходит и что создает. Новизна и новаторство это не синонимы. Товарищ Жданов привел, как пример, введение в школах Дальтон-плана и бригадно-лабораторного метода, при котором каждый ученик имел право перед началом урока определить тему занятия, а учитель слепо шел за учеником. Было ли это новизной? Да, это было новизной, но не прогрессивным новаторством, и партия резко осудила и отменила эту практику, как реакционную.
В Постановлении ЦК ВКП(б) указывается, что признаком формалистической музыки является также от каз о т песенной полифонии и уход к надуманному, сухому, искусственному многоголосию, так называемой линеарности, или к примитивному унисону.
Культивирование формы как цели искусства приводит в итоге к распаду и самой формы, к утере высокого профессионального мастерства.
Как сказано в Постановлении ЦК, формализм приводит к отрыву композиторов «в своей музыке от запросов и художественного вкуса советского народа» и замыканию композиторов «в уз-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Об опере «Великая дружба» В. Мурадели 7
- Вступительная речь тов. А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 13
- Выступление тов. А. А. Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 20
- Великому вождю советского народа товарищу Сталину 33
- Говорят классики 35
- За творчество, достойное советского народа 59
- Выступления на собрании композиторов и музыковедов г. Москвы 69
- Смех сквозь слезы 109
- По страницам печати 115
- Хроника 127
- Три лучшие песни о Сталине 131
- Кантата о Сталине 135
- Песня о Сталине 139
- Величальная И. В. Сталину 143



