появились новые «импрессионистско-символические» тенденции, с одной стороны, (стр. 179) и рационалистические — с другой. Ю. Кремлев объясняет эти тенденции влиянием «модных песен» декадентства (стр. 188). С такой постановкой вопроса трудно согласиться. Да, в поздних произведениях Грига ощущаются новые настроения, поиски новых, свежих средств выразительности. Это вполне естественно для композитора, творческий путь которого длился более сорока лет. Григ чаще обращается к приемам поэтической звукописи, пользуясь при этом элементами импрессионистской техники. Но никогда, за исключением отдельных чисто пейзажных зарисовок («Колокольный звон», ор. 54) , эта техника не становится для него самоцелью, никогда не происходит того, что Ю. Кремлев называет «выделением ощущений за счет чувств» (стр. 170). Эмоциональный строй некоторых пьес («Тайна», «Иллюзия», ор. 57) становится сумрачным, манера выражения — более субъективной и меньше связанной с народным мышлением. Но видеть здесь путь к образам «загадочным, символическим, иррациональным» (стр. 174) было бы тенденциозным преувеличением. Элементы импрессионистской техники обогатили, а не сузили творческую манеру Грига, не лишили его музыку обаяния простоты и силы эмоционального воздействия.
Столь же спорны в книге оценки поздних обработок норвежских народных песен (ор. 66), в которых, по словам автора, «на смену эмоциональности приходят как бы случайные впечатления или приемы остроумно рассудочного варьирования» (стр. 182). По существу, вольно или невольно, позднему творчеству Грига необоснованно приписываются заблуждения модернизма.
В отдельных моментах книги сказываются и тенденции к вульгаризации. Так, вряд ли стоило объяснять «остроту» и «угловатость» музыкального рисунка у Грига как некое звуковое воплощение «острых, угловатых очертаний утесов и скал... резких, четких контуров в прозрачном воздухе» (стр. 218).
Анализ сочинений Грига дан в книге параллельно с жизнеописанием композитора. Такая композиция позволяет автору остановиться на малоизвестных и забытых произведениях (музыка к «Берглиот», «Улафу Трюгваоону», баллада «Одинокий» и т. д.). В работе встречаются тонкие наблюдения, новые и интересные обобщения некоторых черт стиля Грига (контраст созерцательности и действенности как пружина развития; фактурно-образующее и развивающее значение перекличек, эхо; влияние на фортепьянную фактуру певческой четырехголосной традиции и т. п.).
Ю. Кремлев пользуется методом анализа, который Б. Асафьев называл «образнословесным описанием». При неоспоримых достоинствах этот метод имеет и свою отрицательную сторону: он часто приводит к поверхностным описаниям и повторениям. Анализу ряда произведений недостает точности в определении конкретных принципов музыкального языка; нераскрытым остается, в частности, своеобразие формы и гармонического мышления. Автор неоднократно касается этих вопросов, но чаще всего в общих выражениях. Например, о гармонии говорится: «любимые септаккорды», «пестрота хроматических альтераций». Но почти не упомянуты такие специфические черты григовской гармонии, как параллельное движение септаккордов, система эллиптических разрешений, старинные лады, мажор-минор и т. д.
При отмеченных недостатках и спорных моментах книга Ю. Кремлева представляется ценным вкладом в наше музыкознание. Она с интересом прочтется и опециалистоммузыковедом и широким читателем.
И. Барсова
*
Польская книга о скрипичных мастерах
Ценным вкладом в историю музыкального инструментария представляется книга польского ученого Здзислава Шульца — «Словарь польских скрипичных мастеров». Автор книги — научный сотрудник Национального Музея в Познани. Изучив богатое собрание инструментов Музея и обширную литературу, Зд. Шульц создал интересный труд, освещающий развитие польского скрипичного мастерства («лютництва») на протяжении нескольких столетий. Книга составлена из вступительного раздела, посвященного истории польских музыкальных инструментов, и обширного словаря польских мастеров.
Значительный интерес представляет описание обнаруженного при раскопках на территории Гданьска старинного пятиструнного смычкового инструмента XII века; по мнению автора, это — прообраз польского смычкового инструмента — трехструнной мазанки.
Не менее интересно описание польских генсьле (gęśle) — трех-, а затем четырехструнных смычковых инструментов, настроенных по квинтам. Жаль лишь, что автору не удалось проследить родственные связи подгаляньских генсьле со смычковыми инструментами других славянских народов. Очень важны приводимые в кни-
_________
Zdzislaw Szulc. Slownik lutników polskich. Poznan. 1953.
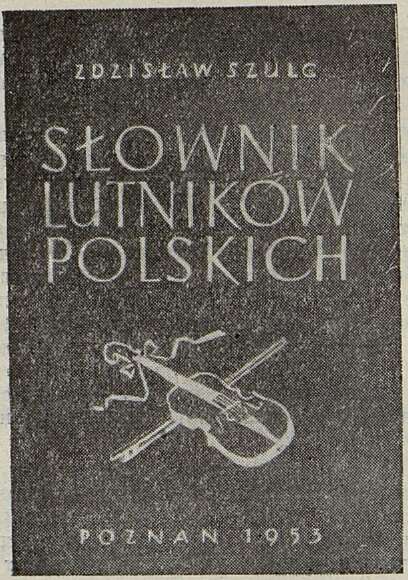
ге сведения о связи генсьле со скрипкой (польское «skrzypce»).
Автор прав, когда утверждает, что скрипка «возникла путем эволюции»; но трудно согласиться с его категорическим утверждением, что скрипка появилась именно в Польше (даже точнее — в Кракове) после 1518 года.
*
Быть может, рамки вступительной статьи не позволили автору теснее связать развитие смычковых инструментов в Польше с развитием польской музыкальной культуры в целом. Особую ценность представляет словарь, содержащий сведения о 125 польских мастерах. Здесь приводятся данные о жизни и творческой деятельности таких видных польских мастеров скрипок, как Матеуш Добруцкий, Мартин Гроблич, Ян и Балтазар Данкварты, Томаш Пануфник и многие другие. Попутно приводится и библиография. Внимание профессионалов привлекут и многочисленные изображения инструментов польских мастеров, а также сравнительные таблицы и указатели.
Л. Гинзбург
*
Статьи китайских музыкантов
Древняя и вечно юная музыка Китая становится все более широким достоянием слушателей различных стран мира. Закономерно, что самый интерес к китайской музыкальной культуре становится все более многосторонним и охватывает, наряду с композиторским и исполнительским искусством, и китайское музыковедение.
Выпущенный Музгизом сборник статей китайских композиторов и музыковедов не представляет собой целостного исследования: работы, включенные в него, посвящены отдельным вопросам развития китайской музыкальной культуры. Однако, при всем разнообразии этих вопросов, все авторы так или иначе касаются важнейшей проблемы — соотношения национального своеобразия с достижениями мировой музыкальной культуры. Об этом, в частности, пишет профессор Инь Фа-лу в статье «Наши замечательные музыкальные традиции», содержащей лаконичный обзор развития китайского музыкального инструментария, а также интересные данные о распространении в древнем Китае 12-ступенного хроматического звукоряда, возникшего намного ранее, чем пифагорийский звукоряд в Европе. Инь Фа-лу освещает музыкально-эстетические взгляды Конфуция и других древних китайских философов. Интересна статья Ма Кэ «Китайская народная песня». Автор отмечает влияние народной песни на более сложные музыкальные жанры, в частности, на оперу и музыкальную драму. Возражая против обиходного мнения о пентатонной природе китайской музыки, Ма Кэ пишет: «Китайская музыка строится на основе разных ладов, начиная с трехступеяных и до семиступенных. Наиболее важные из них: пентатоника, шести- и семиступенные лады» (стр. 41). Особенно подробно автор останавливается на разнообразных структурах народных песен — от простой куплетности до сложных вариационных форм, синтетических песенно-танцевальных жанров («датой»), многочастных песен-баллад («чжугундяо»). В этой статье, а также в работе Люй Цзи «О некоторых вопросах музыкальной теории и критики» изложены взгляды авторов на принципы цитирования образцов музыкального фольклора в профессиональном творчестве. Вопрос о соотношении национального и интернационального в китайской музыке получает наиболее подробное и глубокое
_________
«О китайской музыке». Статьи китайских композиторов и музыковедов. Вып. 1. М., Музгиз, 1958. Составитель Г. Шнеерсон, русский перевод В. Пасенчука. Цена 2 р.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Творчество молодых 5
- Несколько заметок о воспитании молодежи 18
- Обучение и воспитание нераздельны 19
- Не забывать о национальной самобытности 24
- Пути современного новаторства. Статья 2 27
- Из воспоминаний о В. Захарове 42
- Три песни В. Соловьева-Седого 50
- Казахская симфония 55
- Поэма С. Урбаха 59
- Киргизский оперный театр 62
- «Эсмеральда» 68
- Иркутская оперетта в столице 71
- Джиакомо Пуччини 74
- Воспоминания и раздумья 85
- Международный конкурс имени Дж. Энеску. Соревнование скрипачей 94
- Международный конкурс имени Дж. Энеску. Конкурс пианистов 98
- Юбилейные концерты Д. Ойстраха 100
- Концерты киргизской музыки 101
- Концерты киргизской музыки 102
- Пианисты 103
- Встречи с американской музыкой 105
- Ютта Цофф 108
- Органист Вольфганг Шетелих 108
- Зигфрид Беренд 109
- Квартет имени Сметаны 110
- Лоиз Маршалл 110
- Павел Кармалюк 111
- С. Фурер 112
- Неделя болгарской музыки в Минске 112
- По Сибири и Заполярью 114
- Рождение оркестра 119
- Встречи с польскими товарищами 121
- О чем я расскажу американскому народу 123
- «Эдип» Энеску в Бухарестском театре 125
- Музыкальный Берлин 128
- Два фестиваля — два мира 131
- Успех советского оркестра в Брюсселе 133
- В музыкальных журналах 137
- Памяти Воана Уильямса 139
- Стеван Христич 140
- Ценный труд о большом музыканте 141
- Книга о Григе 142
- Польская книга о скрипичных мастерах 143
- Статьи китайских музыкантов 144
- Н. Пейко. Соната для фортепиано ми минор (соч. 1946–1954 гг.) 145
- Квартет № 1. Партитура 145
- А. Шаверзашвили. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 146
- Нотографические заметки 146
- Сборник детских песен 146
- М. Кусс. Два романса на стихи поэтов-революционеров для среднего голоса в сопровождении фортепиано 146
- Новые ноты 147
- Композиторская молодежь в трех республиках 148
- Творческий отчет А. Степаняна 148
- Новые сочинения ленинградцев 149
- Гастрольные концерты 151
- Искоренять пошлость в музыке 152
- Филармония в новом сезоне. Свердловск, Горький, Воронеж 152
- Декада киргизского искусства и литературы 154
- Международный конкурс в Женеве 156
- Зарубежные музыканты в Советском Союзе 156
- Артисты Большого театра в Орехово-Зуево 156
- Новые спектакли 156
- На театральной конференции 157
- А. Н. Должанский 158
- А. А. Гозенпуд 158
- Ю. А. Кремлев 158
- М. О. Янковский 159
- А. А. Альшванг 159
- Л. М. Пульвер 160
- В несколько строк 160
- А. М. Веприк 161
- А. Е. Туренков 161
- С. Б. Оксер 162
- Указатель к журналу «Советская музыка» за 1958 год 163



