Всяческого одобрения заслуживает и тот факт, что при построении курса авторы исходят из необходимости «изучать все элементы музыки в их историческом развитии, в конкретных проявлениях,— как те или другие средства выражения, а не как извечно данные «нормы» или «законы» (стр. 5). Следует также приветствовать популярное изложение некоторых положений теории ладового ритма, как попытку использования в учебном плане рациональных моментов новых теоретических учений. Отметим удачное изложение схем ладовых функций в заключении § 41 (стр. 78); в главе IX — изложение §§ 46, 47, знакомящих с увеличенным и переменными ладами. Удачно подобраны образцы художественной музыкальной декламации и примеры, иллюстрирующие выразительность интонаций человеческой речи (см. § 64, гл. XI). Представляя собою наглядный пример перестройки, связанной с глубокими и значительными процессами (классовая борьба на музыкальном фронте и ее влияние на развитие музыкально- теоретической мысли), пособие К. и К., как интересный опыт в педагогической практике, требует подробного анализа по существу. К этому анализу мы и перейдем.
Прежде всего обратимся к основному вопросу — вопросу о содержании. «Анализ музыкального содержания целостных... музыкальных образов» объявляется авторами «конечным этапом музыкальной грамоты» (стр. 4). В дальнейшем они следующим образом развивают эту мысль: «Желая понять идею всей музыкальной пьесы, мы должны не только «слышать» (различать) все ее созвучия, интервалы, ритмы, тональности и т. п., но и понимать их назначение, как определенных средств выразительности, в конкретных музыкальных образах» (стр. 1 1 5). Посмотрим, как же проводится авторами анализ содержания музыкальных произведений. На стр. 113 мы читаем: «Четко различая в музыкальных построениях икт, предикт, слабое окончание, взаимоотношение этих частей музыкальной фразы, целых фраз друг к другу, мы подходим к пониманию логической структуры всего построения. Дальнейшая работа в этом направлении — углубление наших сведений о выразительности отдельных музыкальных фраз, их отношения друг к другу — приводит к пониманию самого музыкального мышления, содержания музыкальной пьесы или ее отдельных частей». Основная целевая установка на
За советский, учебник музыкальной грамоты
расчлененность, на анализ «звеньев», на «очерк» движения (главы II, X, XI), которую схематично можно представить так: сначала элементы, 1 а затем их взаимодействие, приводит К. и К. к понятию «логической структуры построений», отождествляемой через мышление с музыкальным содержанием. Сложный путь становления содержания произведения выглядит по К. и К. прерывным: выпадают звенья между звуком и образом, с одной стороны, между образом и содержанием — с другой. Фактически К. и К. оперируют либо звуком, либо образом; напр.: какая-либо мелодия, как сложное звуковое единство, расщепляется на «звенья» и изучается посредством сопоставления этих звеньев между собой. В других случаях на помощь привлекается словесный текст, и содержание музыки раскрывается по аналогии с содержанием литературного текста, по степени адекватности их друг другу: «...часто еще большие результаты дает изучение музыкального образа и словесного текста вокальных произведений (песен, романсов, опер), в которых чаще всего... наблюдается органическая связь того и другого... Сопоставляя содержание музыки с текстом, мы можем определить, как и насколько музыка подчеркивает и углубляет идейно-эмоциональное содержание последнего»..., т. е. текста (стр. 117). Двусторонний метод изучения специфики содержания — метод анализа и синтеза — подменяется К. и К. односторонним членением на «звенья», «построения» по признаку текстовому, символическому (лейтмотивы), логическому; жизненность метода выхолащивается вследствие подмены содержания формой и отождествления элементов формообразования с формой идеологии. Приведем конкретные примеры, иллюстрирующие нашу мысль. На стр. 117 — 118 дается следующий комментарий к примеру № 151 (русская песня — «Как по морю»): «Музыкальный образ мелодии... раскрывается в двукратном повторении 1 -го построения... и двукратном же «ответе» на него... Первые два построения... дают плавный, энергичный размах, с активно подчеркнутым иктом в Ту (h) и спокойным откатом bTi (е). Минорная тоника (е — g — h) придает этим взлетам мелодии мягкий, но отнюдь не подавленный характер. 3-е и 4-е построения... — «ответы» — своим противоположным движением
* Под элементами музыкал: ной речи авторы понимают мелодический рисунок, интервалы, лады метроритм и т. п. элементы формообразования.
77
78
создают упругие «откаты», спокойные и вместе активные, законченные своими последними ходами вверх..., мелодический упор (икт) при этом переносится... на самый конец. Гармоническая уравновешенность на мягко-минорном фоне, активные, упругие и строго соразмеренные импульсы движения (разрядка авторов) — вот основные моменты художественного содержания этого простого по средствам музыкального образа» (разрядка наша. Д.-Г. и М.). На стр. 120, характеризуя пример № 153, авторы пишут: «Даже самый беглый обзор динамического музыкального образа песни наглядно раскрывает, какими средствами достигается ее напряженность, стремительность, торжествующая энергия, хорошо гармонирующие с содержанием текста этой юношеской песни». А вот и «беглый обзор динамического музыкального образа»: «Полный цикл мелодического подъема — октава — таким образом пройден; после короткой передышки 3-я фаза закрепляет достигнутые результаты активно широким «торжествующим» возгласом — скачком от Ti — опять таки на большую сексту... После этого... 3-я фаза, как бы сворачивая пружину, в активном метроритме... спускается до Т ш и в 4-й фазе заключается мажорным «резюме». Результатом мелодического движения в этом резюме является do 2 — уже не как временная незавершен
ная задержка движения..., но как окончательно «результирующий» икт» (стр. 119—120).
Таким образом, подлинный анализ музыкальных образов сводится авторами к описательным «очеркам» движения музыкальной ткани. «Напряженные жалобы», «слабые, грустные эхо и вскрики», «болезненные призывы или вопли», «активные возгласы», «резюме», «покорные спуски», «причитания» — все эти описательные расшифровки музыкальных образов обличают авторов в пристрастии к субъективно- психологическому анализу. Анализы К. и К. — не больше, как схемы одностороннего рассмотрения; эти анализы — от произведения к произведению — ничем, по существу, не разнятся, хотя и опираются на музыкальные образцы самых различных стилей: тут и народные песни (украинские, великорусские, белорусские, киргизские и др.), тут и «Молодая гвардия», тут и отрывки из Бетховена, Р.-Корсакова, Мусоргского и т. п. (см., напр., №№ 151 — 157).
И. Довгялло-Г арбуз и С. Максимов
При таком понимании специфики содержания музыкальной речи весьма недвусмысленно выглядит следующая псевдосоциологическая отписка К. и К. на стр. 45: «Оценивая выразительность отдельных интервалов, надо учесть,... что нельзя подходить к произведениям всех времен с нашей современной меркой (разр. наша. Д. -Г. и М.); средства музыкального языка, отношение к ним различны в разные эпохи, как различно и само содержание музыкальной речи». В тесной связи с рассмотренными методологическими установками стоит претенциозный взгляд К. и К. на буржуазное музыкознание. В § 62 на стр. 115 («Понятие о содержании музыки») авторы пишут, что буржуазное музыкознание изучением содержания «вовсе не занималось, так как его целью было не научить пониманию классово обусловленного содержания музыки, а только прикладному техницизму»... «Задачей восприятия музыкальных произведений буржуазное музыкознание считало умение разобраться в формальных особенностях произведений»... «Вопросы же содержания музыкальных образов, социальной обусловленности этого содержания вовсе игнорировались буржуазным музыкознанием». Твердо объявляя себя противниками гапсликианства (что, конечно, похвально), утверждая огульно, что буржуазное музыкознание не понимало классовой обусловленности содержания музыки, игнорировало его и «задачей восприятия» объявляло лишь «умение рэзобратгся в формальных особенностях произведений», К. и К. надели «гансликианский колпак» на голову всего буржуазного музыкознания. Однако буржуазное музыкознание отнюдь не всегда придерживалось откровенно формалистических позиций. Если обратиться к недавно выпущенной Музгизом книге: «Материалы и документы по истории музыки» (т. II, под редакцией проф. М. В. ИвановаБорецкого), то в разделе первом можно найти фактические данные, резко противоречащие утверждениям К. и К. Из этих данных явствует, что уже в XVIII в. буржуазные писатели по музыкальным вопросам высказывались «о социальной роли музыкального искусства, о политическом значении музыки, о зависимости ее от образа правления, климата, инструментов, о роли ее в воспитании»... Причем, не было недостатка и в проблемных суждениях, напр.: «о «подражании природе», о соотношении между поэзией и музыкой, о взаимодействии мелодии и гармонии, о музыкальной науке, о восприятии музыки и
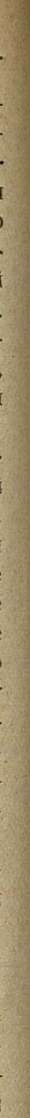
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- С. М. Киров 3
- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7
- «Колхозная сюита» — Сабо 24
- Мой творческий путь 36
- Заметки дирижера 50
- Рихард Вагнер в России 52
- Новое о Вагнере в России 54
- Памяти Л. В. Собинова 56
- Дирижер С. А. Самосуд 62
- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64
- Вестминстерский хор в Москве 65
- Концерт Мориса Марешаль 66
- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67
- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68
- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69
- Курску необходимы плановые концерты 69
- Еще о джазе 70
- По страницам зарубежной печати 74
- Как репетируют и играют американские оркестры 77
- Хроника 77
- За советский учебник музыкальной грамоты 78
- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86
- «Вагнериана» 87
- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98



