о доступности ее, об опере, об инструментальной музыке, наконец, об исполнении музыки» (стр. 5). Перейдем к следующему кардинальному вопросу— о связи объективного с субъективным — и попытаемся рассмотреть его в применении к явлениям музыкального искусства. В «Предисловии» (стр. 4) и в § 3 (стр. 12) К. и К. определяют музыкальный звук: то как «мельчайший строительный элемент музыкальных образов», то как «мельчайший строительный элемент музыкальной мысли». В этих определениях звук отождествляется в качестве физического (акустического) явления с психо- физиологическим. На стр. 10 (§ 3) авторы пишут, что «... всякое музыкальное произведение состоит из ряда звуков... Если вся музыка имеет определенную выразительность, определенное содержание, то элементарные проявления ее выразительности мы вправе искать уже в отдельных звуках музыкальных произведений» (разр. наша. Д. -Г. и М.). Приравнивая выразительность к содержанию и отыскивая ее в отдельных звуках, авторы устанавливают связь «определенной эмоциональной окраски выразительности» с физическими свойствами звука; по мысли авторов, «выразительность... особенно ясно раскрывается при сопоставлении друг с другом разных по силе, длительности, высоте звуков» (стр. 11). Музыкальные звуки, — читаем мы далее, — «приобретают еще и новые оттенки выразительности, не присущие обычным «немузыкальным» звучаниям. Эти новые свойства звуков музыкальных произведений обусловлены высокою организованностью, отличающей музыкальные звуки от всех других» (там же). По принципу тождества (А= А) звук = мысль, образ, содержание, выразительность, высокая организованность (акустическое понимание звука) — пройден до конца путь сведения физического явления к психо-физиологическому. Не выясняя процесса осмысления звука в нашем восприятии, не дойдя до раскрытия образа} идеи, содержания произведения, К. и К. через «высокую организованность» попали в положение тех акустиков, кои (по их же мнению) изолируют рассмотрение элементов музыкальной речи от ее содержания (см. стр. 54). Ленинское понимание ощущения, как «превращения энергии внешнего раздражения в факт сознания», как «непосредственной связи сознания с внешним миром» 1 и отражения мира
1 «Материализм и эмпириокритицизм», 3-е изд., гл. I, стр. 41.
За советский учебник музыкальной грамоты
в мозгу человека фигурами логики, — ленинская теория отражения не получает у К. и К. применения в конкретной трактовке музыкального звука, как объекта познания. В самом деле: музыкальный тон, как сложная, в высокой степени диференцированная, исторически сложившаяся разновидность ощущения, познается нами в результате «воздействия материи на наши органы чувств». Но как звуки превращаются в «мельчайший строительный элемент музыкальной мысли» и тем самым «в мельчайший строительный элемент музыкальных образов» это авторами не выясняется. А между тем от решения этого вопроса, имеющего исключительное значение для материалистического понимания специфики музыкального содержания, зависит выбор методологически и методически правильного пути. Ответить на этот вопрос — как данная разновидность ощущения (музыкальный тон) превращается в «факт сознания» (мысль, образ) — можно, лишь проследив, «как же относятся ощущения как образ, ощущения как снимок, как отображение, к тому, что отображается. В каком смысле здесь можно говорить о схожести, о похожести отображения с отображаемым, копии с оригиналом»...' В свете ленинской теории отражения проследим взгляды К. и К. на отдельные элементы формообразования: лад, мелодическая линия, интервалика. О выразительных возможностях лада, который определяется авторами тавтологически — как «вид ладовой настройки», — говорится в примечании на стр. 77. По смыслу примечания, н е з а л а д о м, а лишь за звуками и созвучиями признается выразительность. Признавая выразительность за отдельными звуками и не давая исторического понимания лада, К. и К. искажают процесс познания объективных закономерностей и тем самым уводят от целей и задач научного изучения их. Попутно отметим, что принцип «ладовой настройки», заимствованный у Б. Л. Яворского, превращается у авторов «Музграмоты в «универсальную отмычку», с помощью которой делается покушение на раскрытие музыкального содержания произведений. Популяризация принципов ладового ритма осуществляется авторами столь своеобразно, что едва ли основоположник этой теории будет признателен К. и К. за «улучшение» своей системы. Вместо хотя бы сжатой исторической картины образования «ладовой настройки» дается справка о разрешении неустоев в устои, о
2 м. Митин, «Материалистическая диалектика философия пролетариата», стр. 24. Партиздат, 1933.
79
80 И. Довгялло-Гарбуз и С. Максимов
преобладании устоев в народных песнях, о господствующем положении неустоев в многоголосных произведениях «культурной» музыки и т. п. Вводя термины «тяготение», «сопряжение», К. и К. не затрудняют себя определением того, что, собственно, они понимают под ними, и налегают на схематизм: «в схемах принято изображать», «принято говорить сопряжен» (§ 38) и т. д. Преемственность осознания гармонических комплексов по К. и К. выглядит так: «В музыке прошлого» (?), кроме уменьшенного септаккорда, «приобрели особое значение» (разр. наша. Д.-Г. и М.) еще и малые септаккорды (стр. 60). Затушевывая роль домннантсептаккорда, авторы извращают историческую перспективу развития гармонического языка. В § 36, на стр. 61, в полном согласии со взглядом на выразительные возможности лада, и мелодический рисунок, как «средство» организации музыки, объявляется автономным и сосуществует наряду с другим «средством» — ладовой организацией. «Одним из средств... организации звуков является мелодический рисунок; кроме него существуют и многие другие средства — важнейшим из них является ладовая организация музыки». Причинно-следственная зависимость между мелодией и ладом смазана; а между тем мелодию — при всем интонационном и ритмическом разнообразии — вряд ли можно мыслить вне лада (по крайней мере, в той музыке, на которой базируется преподавание теоретических дисциплин). Характеризуя мелодический рисунок, как одно из выразительных «средств» (§ 14), К. и К. сводят музыкальное содержание к «геометрии движения». Вот как подходят они к изучению мелодического рисунка: «Строение мелодического рисунка различных (?) музыкальных произведений часто весьма сложно; чтобы понимать это строение, необходимо расчленять мелодический рисунок на отдельные части, осознать соотношение этих частей; необходимо, наконец, осознать роль опорных (?) точек в движении мелодической линии и финальных (?) точек этого движения» (стр. 29). Как мелодическая линия (мелодический рисунок), так и интервалика понимаются авторами абстрактно, — вне лада и тональности. Отсылая интересующихся к главе III рецензируемой работы, мы ограничимся приведением из нее двух, взятых наудачу, примеров: 1) чИзменение величины интервала (его шага») связано, далее, с ббльшей или меньшей напряженностью звучания. Не следует думать, что чем больше шаг, тем больше
и напряженность звучания. Зависимость здесь , гораздо более сложная (I). Сыграв и спев последовательно все 12 интервалов 8 пределах октавы (следует нотный пример, который мы опускаем. Д.-Г. и М.), мы можем заметить (!), как сложно (!) изменяется напряженность интервалов по мере увеличения их шага. Так, напр., увелич. 4 и ум. 5 (6 полутонов...) весьма отличаются и от (чистой? Д.-Г. и М.) кварты йот чистой квинты своим резко неустойчивым характером. Чистая квинта звучит относительно пусто (?), очень легка для исполнения голосом. Далее следуют интервалы с большею напряженностью — сексты и особенно септимы, а чистая октава опять в противоположность б. 7 звучит и пусто (?) и легка для исполнения голосом, словно эхо (?), повторение того же звука на другой высоте» (стр. 43, разрядка наша. Д.-Г. и М.); 2) «...все «увеличенные» или «уменьшенные» интервалы относят к разряду «диссонансов», хотя они часто энгармонически равны несовершенным или даже совершенным консонансам и звучат на музыкальных инструментах точно так же, как и эти консонансы. Так, напр., уменьшенная кварта звучит так же (I), как большая терция, уменьшенная секста звучит, как чистая квинта (?), и т. д. (стр. 48. Разр. наша. Д.-Г. и М.). Приведенных примеров достаточно для того, чтобы судить, как ленинская теория отражения упрощенчески подменяется у К. и К.
сведением объективного к субъективному, и наоборот.
2
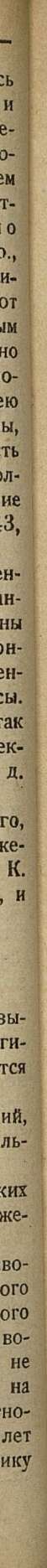
«Методическая направленность курса музыкальной грамоты», обусловленная методологическими установками авторов, определяется следующими двумя задачами: «1. Дать учащемуся первый цикл сведений, вводящих его в понимание строения музыкальной речи, ее идейного содержания. 2. Вооружить учащегося рядом технических навыков, необходимых в музыкально-художественной практике» (см. стр. 4). Прежде всего отметим, что, стремясь освободить нотную грамоту «от схоластического балласта» и придавая ей «характер сжатого повторительного очерка» (стр. 3), авторы вовсе лишили ее подобающего места. Они не считают нужным «долго задерживаться» на отделе нотной грамоты, полагая, будто в отношении последней «учебники последних лет внесли живую струю, разработав методику
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- С. М. Киров 3
- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7
- «Колхозная сюита» — Сабо 24
- Мой творческий путь 36
- Заметки дирижера 50
- Рихард Вагнер в России 52
- Новое о Вагнере в России 54
- Памяти Л. В. Собинова 56
- Дирижер С. А. Самосуд 62
- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64
- Вестминстерский хор в Москве 65
- Концерт Мориса Марешаль 66
- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67
- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68
- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69
- Курску необходимы плановые концерты 69
- Еще о джазе 70
- По страницам зарубежной печати 74
- Как репетируют и играют американские оркестры 77
- Хроника 77
- За советский учебник музыкальной грамоты 78
- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86
- «Вагнериана» 87
- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98



