Прим. 2.
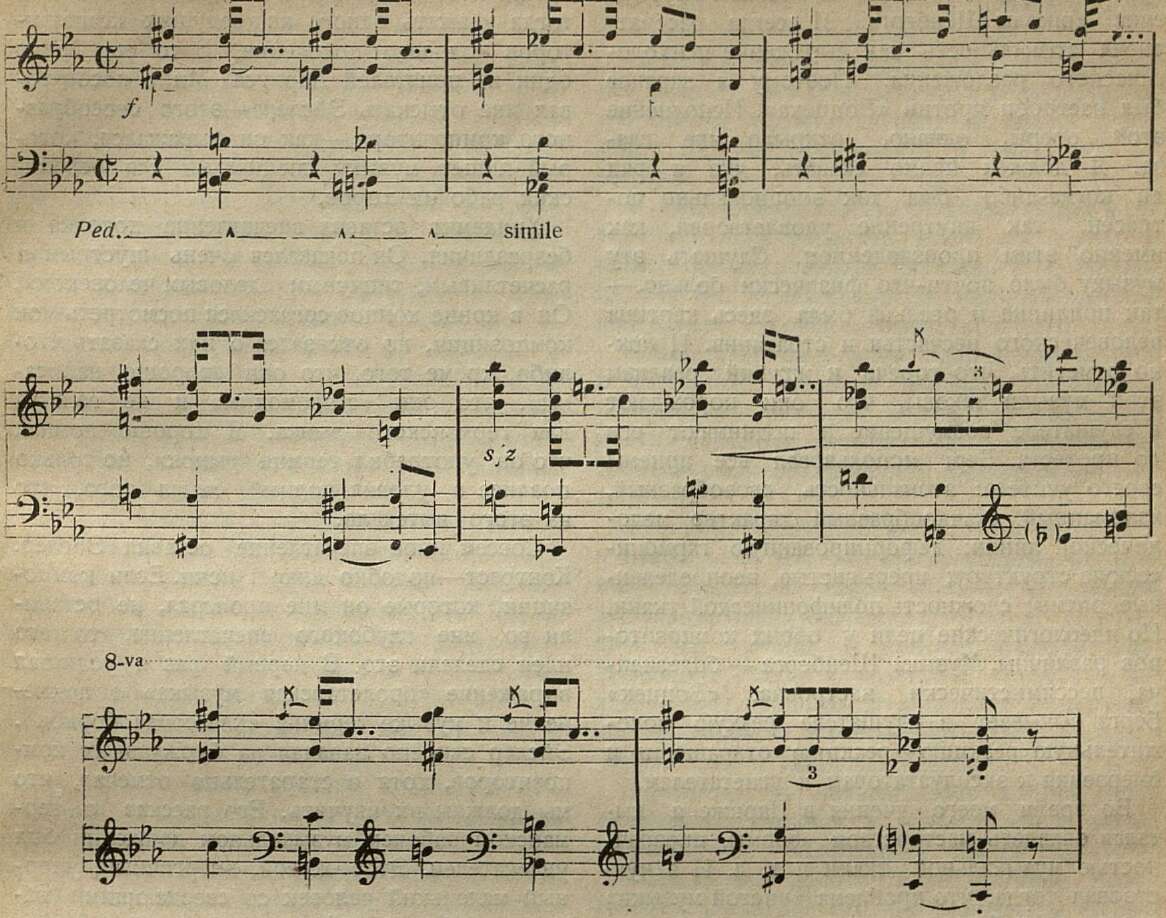
Знаменательно, что мне необходимо было завоевать музыкальную независимость от моего учителя и от парижско-европейского неоклассицизма раньше, чем я стал медленно понимать социальную подоплеку неоклассицизма. Как известно, Стравинский после 1917 — 1918 г. уже не написал больше ни одного произведения на основе русской народной песни. После пройденного пути — от «Жар-птицы», «Петрушки», «Весны священной», «Лисы», «Четырех русских песен» и т. д. к «Свадебке» — этот композитор внезапно уходит в сторону от русской тематики. Вместо полных сил, музыкально богатых и ярких композиций, которые, по моему мнению, довели линию национальной музыки, представленной Глинкой, Даргомыжским, Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым, до высшей, наиболее разработанной и — в моих глазах — наиболее эффективной формы, Стравинский внезапно отвернулся от России и от русской крестьянской музыки, составлявшей ядро и основу его творчества, и стал блуждать по всем музыкальным закоулкам истории. С 1917 г. он сочинял пародии и подражания Перголези, Доницетти, Баху, Генделю, Люлли, Оффенбаху и т. д. — фальшивые до тошноты. Его произведения обнаруживали неизменный и ничем не сдерживаемый упадок. Он перешел из рук греческих муз («Аполлон Мусагет») на грудь «материцеркви» («Симфония псалмов»); его последние произведения — лишь слабое чириканье на фоне мертвых, избитых формул эпохи рококо...
В то же самое время, как возрастающая бедность неоклассического стиля становилась для меня все более и более очевидной, новый эксперимент первостепенной важности открыл мне глаза на широкую сферу музыкальных возможностей. Мне удалось быть — только однажды — на представлении в Нью-
Йорке оперы Албана Берга «Воццек». В то время, как и сейчас, я чувствовал и чувствую большую антипатию ко всякой музыке типа «школы Шенберга». Я всегда рассматривал атональность как выражение психологического разложения. Поэтому я заранее был настроен против «Воццека». Исполнение этой оперы, однако, открыло мне глаза. Я должен прямо сказать, что я вряд ли когда-либо был так эмоционально потрясен, так внутренне удовлетворен, как именно этим произведением. Слушать эту музыку было почти-что физически больно, — так подлинна и реальна была здесь картина человеческого несчастья и страдания. И важно отметить, что горечь и жгучий реализм этой музыки таковы, что они порождают в слушателе возмущение и поднимают его до протеста. Берг использовал все приемы своего учителя: атональность, своеобразный, изломанный, скачкообразный характер мелодической линии; деформированную гармоническую структуру; прерывистые, неопределенные ритмы; сложность полифонической ткани. Но идеологические цели у обоих композиторов различны. Музыка Шенберга — болезненна, пессимистически настроена, «Воццек» Берга вызывает в слушателе резкую положительную реакцию — реакцию отвращения и омерзения к эксплуататорам и угнетателям.
Во время моего учения в Париже я пытался овладеть мастерством формы, прозрачностью музыкальной ткани и т. д. И я чувствовал тогда, что проблема «чистой музыки» является проблемой, которая достойна внимания подлинного артиста. А теперь, со всей интенсивностью, я понял, как противоестественно было отделять чистую музыку от жизни, как ложно было думать только о форме, о «стилистической чистоте» и обо всем остальном в тот момент, когда громадные мировые проблемы ожидали своего решения, требовали своего художественного выражения. Я снова начал стремиться заполнить свое творчество социально-политическим содержанием. Результатом явился цикл песен на слова Блэка, английского поэта XVIII — XIX столетий. Эти песни были написаны после того, как я узнал про большую забастовку горняков в Харлане, в штате Кентукки, об ужасах нищей и голодной жизни рабочих в этом районе. Эти песни — первый шаг на том музыкальном пути, по которому я отныне пошел.
Именно поэтому я был очень заинтересован во встрече (в 1932 г.) с немецким пролетарским композитором Эйслером. Я приехал в Берлин на несколько дней послушать музыку и, если окажется возможным, встретиться с Хиндемитом, в котором я продолжал тогда уважать одного из ведущих композиторов молодого поколения. В то же время один из приятелей Дариуса Мийо посоветовал мне отыскать Эйслера — этого своеобразного композитора, — как он выражался, который пишет музыку специально для берлинских рабочих хоров.
Хиндемит оставил впечатление холодка и безразличия. Он показался очень шустрым и расчетливым, типичным «деловым человеком». Он в конце концов согласился посмотреть мои композиции, но отказался о них сказать чтолибо, кроме того, что они «хорошо написаны», что они «старомодны» и не годятся для германского рынка. Я хорошо помню, что он употребил термин «рынок», но только позднее я уловил полный смысл того, что из этого вытекало.
Совсем иное впечатление оставил Эйслер. Контраст — подобно дню и ночи. Если композиции, которые он мне проиграл, не оставили во мне глубокого впечатления, то его идеи сделали это. В первый раз я услышал выражение «пролетарская музыка» и применение к музыке термина «классовая борьба». Эйслер свирепо нападал на буржуазных композиторов, хотя и старательно отмечал, что мы должны их изучить. Его рассказ о германском рабочем музыкальном движении был увлекателен. Этот живой, энергичный, упорный маленький человек со сверкающими глазами, возбужденной жестикуляцией и с дьявольской уверенностью в правоте того, что он говорил, произвел на меня глубокое впечатление.
В 1932 г. я впервые услышал о клубе имени Пьера Дегейтера в Нью-Йорке и посетил лекцию Чарльза Сигера «О музыке как социальной функции». Музыка, — говорил он, — есть не столько продукт фантазии отдельной личности, сколько коллективный продукт всего общества; это последнее вызывает музыку к бытию для определенной, реальной цели. Сигер — весьма необычное явление в этом кругу интеллигентов, музыкантов и революционеров. Высокий, худой, типичный янки из «Новой Англии», он говорил сухим профессорским тоном — результат долголетней лекторской деятельности в консерватории. И однако, было что-то неформальное, очаровательно человечное в его манере, несмотря на ее сухость. А его логика была непогрешима. Сигер рисовал эволюцию музыки под социальным углом зрения — через
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- С. М. Киров 3
- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7
- «Колхозная сюита» — Сабо 24
- Мой творческий путь 36
- Заметки дирижера 50
- Рихард Вагнер в России 52
- Новое о Вагнере в России 54
- Памяти Л. В. Собинова 56
- Дирижер С. А. Самосуд 62
- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64
- Вестминстерский хор в Москве 65
- Концерт Мориса Марешаль 66
- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67
- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68
- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69
- Курску необходимы плановые концерты 69
- Еще о джазе 70
- По страницам зарубежной печати 74
- Как репетируют и играют американские оркестры 77
- Хроника 77
- За советский учебник музыкальной грамоты 78
- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86
- «Вагнериана» 87
- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98



