жет дать пространственную глубину образа (случай диапозитивной проекции Экка — достаточно характерный пример). Музыка может дополнить зрительное изображение, сохраняя художественную целостность впечатления. Стационарная проекция, разумеется, не обязательна, но самый факт дополнения музыкой ощущения непоказанных в зрительном плане деталей сохраняет свое принципиальное значение.
Большая обобщенность действия, свойственная звукозрительному образу, также опирается на синтезирующую роль музыкального оформления. Музыка освобождает показ определенного акта от ряда мелких элементов, демонстрация которых в кино обусловлена особенностями специфики киновидения, требующими скрупулезного вникания в мелочи.
Меньшая связанность с локальным, строго ограниченным пространством и увеличивающаяся отсюда емкость пространственной динамики, — таков неизбежный результат расширившихся возможностей звукозрительного образа. Лучшие мастера кино уже почувствовали эту новую перспективу зрительных представлений, ее грандиозные масштабы.
Пути развития тонфильма лежат в способноти человека к разностороннему и многообразному анализу объективной действительности. Но не только анализ, но и синтез найденных мышлением закономерных связей и отношений объективного мира является подлинной сферой звукозрительного искусства.
С чувством «робости» и «неловкости» тонфильм отказался от строгой синхронности, унаследованной им от немого фильма, где звук только «сопутствовал» зрительному кадру. Постепенно асинхронность стала фактической нормой композиции кадра. Ведь в принципе асинхронность есть обнаружение драматургической роли звука, который самостоятельно влияет, а не пассивно сопутствует зрительному образу.
Принцип звукозрительного контрапункта, утверждающий свободное развитие самостоятельных в семантическом отношении оптического и акустического планов, в своем взаимодействии создающих целостный звукозрительный образ, — этот принцип, пока еще до конца не осуществленный на практике, является живой творческой предпосылкой искусства тонфильма. На этой же еще творчески не вспаханной почве лежат возможности звукозрительного симфонизма и полифонии.
Тонфильм должен перестать бояться музыкальной абстракции и научиться видеть в ней могучую силу раскрытия конкретного. Пусть его девизом познания станут слова великих учителей марксизма: «Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное... от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее». 1
Искусство тонфильма, будучи единством чувственного и логического, не отказываясь от абстракции, данной в форме чувственной наглядности, не станет менее конкретным, а будет более мощным и жизненно-емким в своих познавательных ресурсах и методах.
_________
1 Ленинский сборник, 1931 г., стр. 165 — 167.
Георгий Хубов
«Колхозная сюита» — Сабо. Заметки о лирике
Лирика колхозной жизни! Это звучит непривычно светло, непривычно радостно. Это звучит совсем по-новому, ибо с давних времен — по скверной «священной» традиции буржуазного искусствознания — лирике было уделено место где-то в одном из самых «потаенных» уголков человеческой души. И поэт, спрятавшись от жизни, в этом уголке создавал свое представление о жизни. В полутьме интимного, субъективного мирка суровые очертания действительной жизни растворялись, расплывались, принимали таинственный фантастический вид. Этого было достаточно, чтобы создать яркий романтический фон для интимнейшей пьесы, в которой центральным — и как часто единственным! — действующим лицом выступало лирическое «я». Его выход Гегель назвал вдохновением! Его монологи — «живой и вдохновенной продукцией духа».
Как бы ни были сочны краски, как бы ни были ярки образы этой лирики, она всегда оставалась — в основном — самым сильным художественным средством выражения противопоставленности человека действительности, человека — природе. Столь излюбленные «обращения» лирических поэтов к природе лишь подчеркивали это глубокое противоречие объекта и субъекта. Лирическое «я» всегда оставалось в центре внимания поэта, лирическое «я» всегда оказывалось началом и концом «видения» мира поэта. С особенной силой и яркостью это проявилось в эпоху так наз. романтизма. Да это и понятно. После Гофмана, Шуберта, Шумана понятия «лирика» и «романтика» почти слились.
В сущности же лирика, как противопоставление художника действительности, как выражение молчаливого, пассивного протеста скованной личности («индивиды всегда исходили, и не могли не исходить, из самих себя...» 1) против действительности, и стала основным, важнейшим элементом содержания мелкобуржуазного романтизма.
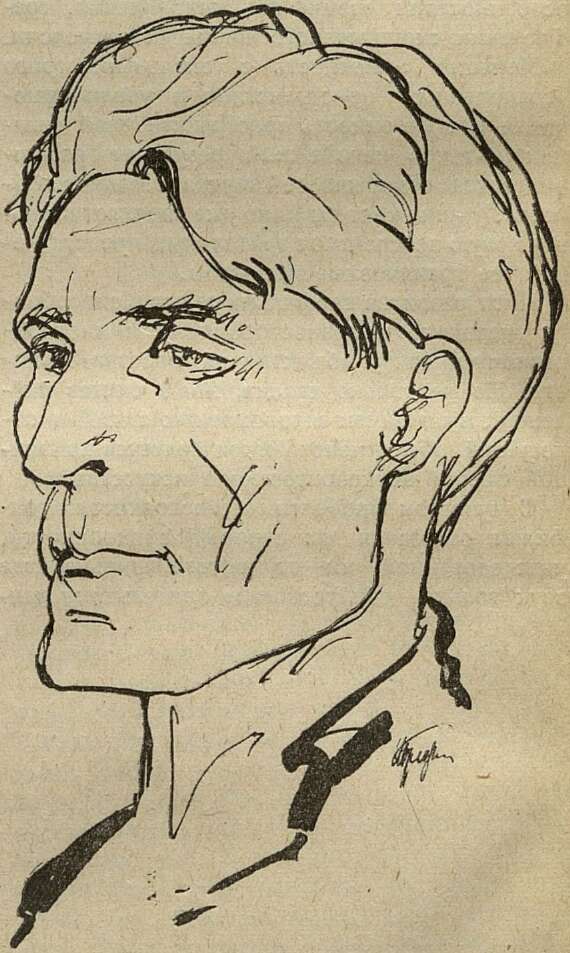
Рис. худ. И. Брюлина
_________
1 Маркс и Энгельс, — «Немецкая идеология», М., 1933., стр. 226.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- С. М. Киров 3
- Проблема музыкальной драматургии в тонфильмах 7
- «Колхозная сюита» — Сабо 24
- Мой творческий путь 36
- Заметки дирижера 50
- Рихард Вагнер в России 52
- Новое о Вагнере в России 54
- Памяти Л. В. Собинова 56
- Дирижер С. А. Самосуд 62
- Концерт виолончелистки Раи Гарбузовой 64
- Вестминстерский хор в Москве 65
- Концерт Мориса Марешаль 66
- Концерт виолончелиста Армена Георгиан 67
- Хроника музыкальной жизни Ленинграда 68
- К началу учебного года в Северном краевом музтехникуме 69
- Курску необходимы плановые концерты 69
- Еще о джазе 70
- По страницам зарубежной печати 74
- Как репетируют и играют американские оркестры 77
- Хроника 77
- За советский учебник музыкальной грамоты 78
- Ф. Шуберт. Песни на тексты Гете 86
- «Вагнериана» 87
- Открытое письмо Союзу Советских Композиторов, его оборонной секции и всем композиторам СССР 98



