Прим. на пред. странице
красоты причитания, выстраданной поколениями русских женщин. В полных жизни народных сценах, в музыкальных образах Пимена, Варлаама, Юродивого, Досифея, Марфы Мусоргский с небывалой глубиной и силой выразил мощь стихийного протеста против угнетателей, величие придавленного, но не сломленного духа народного. Римский-Корсаков отважился заклеймить в «Золотом петушке» дух холопства и тупое самовластие, воссоздал в «Царе Салтане» и в «Снегурочке» народную певучую стихию праздничности и полнокровного веселья. Напоминать ли о «Славься», о письме Татьяны, о сцене у Зимней канавки, о мягкой лирике «У камелька»?
На музыкальной выставке легче всего показать материалы, связанные с историей музыкального театра. Внимание посетителя прежде всего останавливают красочные эскизы декораций к постановкам. Живописные полотна Коровина и в деталях прорисованные эскизы Бочарова и Шишкова, прозрачные акварели А. Васнецова и народная монументальность Федоровского, вдохновенные пейзажи и интерьеры Дмитриева и Арапова, выразительные эскизы декораций Шарлеманя и Бобышева — настоящий праздник русского декоративного искусства.
Ясным становится, как плодотворна тесная связь живописи с музыкой, какие неиссякаемо-богатые источники для живописного творчества заключены в партитурах наших классических опер и балетов. И, видя эту роскошь, невольно думаешь, как губительно может быть для музыкального театра ремесленное, бездушное «оформление» («Мне мерзка неосмысленная декорация», — писал Стасову Мусоргский; «Вы не можете себе представить, как вредит опере плохая декорация», — жаловался Даргомыжский).
Надо признать, что советские декораторы не уронили, но приумножили славное наследие Коровина и Головина. Выставка дает этому немало доказательств.
Музыкальный театр неотделим от певца. Создать сценический образ не всегда удается первому исполнителю. Правда, образ Сусанина вылепил гениальный Петров и нельзя оторвать Волхову, Царевну-Лебедь, Марфу из «Царской невесты» от пленительного облика Забелы. Но нередко классически совершенный сценический образ складывается много позже первого исполнения. Годунов, Олоферн как бы вновь родились в исполнении Шаляпина, так же как не было подлинного Ленского до Собинова. При широко понятой задаче показ истории русской
музыки естественно сближается с необыкновенно содержательной историей русского музыкального театра, с историей русского оперного исполнительства. На рецензируемой выставке в силу чрезмерно настойчивого стремления непременно показать первых исполнителей эта сторона осталась в тени. Витрины у входа на выставку, заполненные фотографиями исполнителей классических опер в постановках последних лет, положения существенно не меняют.
Драгоценным украшением выставки служат портреты русских композиторов — подлинники и хорошие копии с работ Репина, Перова, Маковского и других мастеров живописи. Может быть, впечатление было бы еще сильнее, если бы они не терялись в порою недостаточно освещенном пространстве высоко над щитами, а были бы экспонированы в специальном разделе, образуя импозантную галерею великих музыкантов нашей Родины. Хорошо представлены скульптурные портреты русских композиторов.
Редкостными и подчас весьма выразительными экспонатами блещут разделы, посвященные биографии композиторов. Тут и старинные литографии, и лубки, и подлинники афиш, и фотокопии музыкальных рукописей и писем. Среди последних любопытное письмо В. В. Стасова А. Н. Скрябину с восторженным отзывом о его 3-й симфонии.
Общая планировка выставки такова. Левое крыло фойе 1-го амфитеатра отдано Глинке, Даргомыжскому, Чайковскому и московским композиторам начала XX века, помещенным на одном щите (таким образом, в классики миролюбиво зачислены Скрябин и «младшие боги» русского музыкального Олимпа — Аренский, Ипполитов-Иванов и пр.). Правое крыло фойе принадлежит «Могучей кучке» и Беляевскому кружку. Здесь же один из лучших разделов выставки, посвященный Стасову.
Отсутствие специального выставочного помещения, несомненно, крайне затрудняет построение логичного плана и поневоле заставляет притупить острие критики. Менее понятны отдельные пробелы, вроде полного умалчивания о романсовом творчестве Чайковского и Римского-Корсакова. Нельзя также не пожалеть о некоторой недооценке авторами выставки (Л. А. Уреклян, научный консультант Д. В. Житомирский) активной роли надписей и цитат. Большой и ценный материал высказываний классиков использован не всегда целеустремленно. Поэтому ведущие линии развития русской музыкальной классики, ее подлинная народность, высокая идейность, художественный реализм выявлены как-то спорадически, от случая к случаю. Несколько досадных штриховв положительную общую оценку вносят недосмотры и описки. Нельзя эскиз Бочарова к «Кузнецу Вакуле» Чайковского объявлять эскизом к «Воеводе» (тем более, что от постановки «Воеводы», как известно, никаких эскизов не сохранилось). Нельзя под исполненным Мазановым эскизом костюма Каленика (к «Майской ночи») писать «Голова». Нельзя... но это уже мелочи. Главное же остается неизменным: как. поразительно хороша русская классическая музыка и как нужна, как своевременна организованная Музеем музыкальной культуры выставка, производящая в своем целом прекрасное впечатление. Тем уместнее намерение Комитета по делам искусств сделать выставку передвижной и дать таким образом жителям крупнейших городов Советского Союза возможность ознакомиться с ней.
И. Кунин
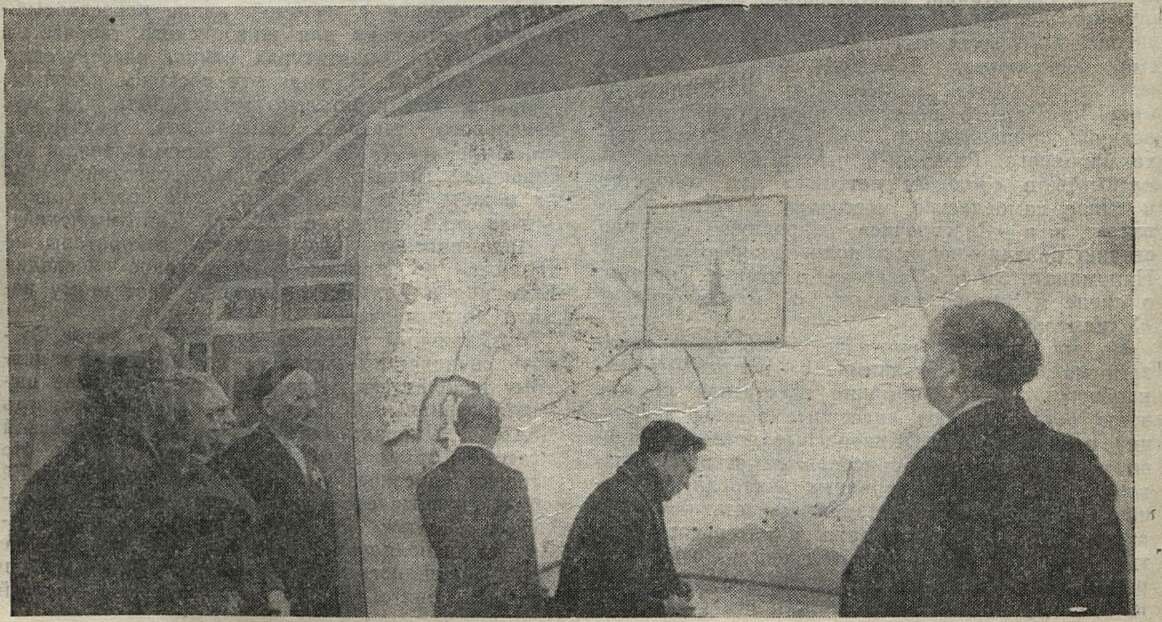
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Задачи журнала «Советская музыка» 3
- Адвокаты формализма 8
- О русской песенности 22
- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31
- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44
- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57
- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63
- Памяти М. А. Бихтера 67
- В Московском хоровом училище 70
- Народная русская певица О. В. Ковалева 74
- М. А. Юдин 77
- Литовский композитор Иозас Груодис 79
- Хроника 80
- Дружеские шаржи 89
- По страницам печати 93
- Нотография и библиография 102
- В Северной Корее 106
- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111



