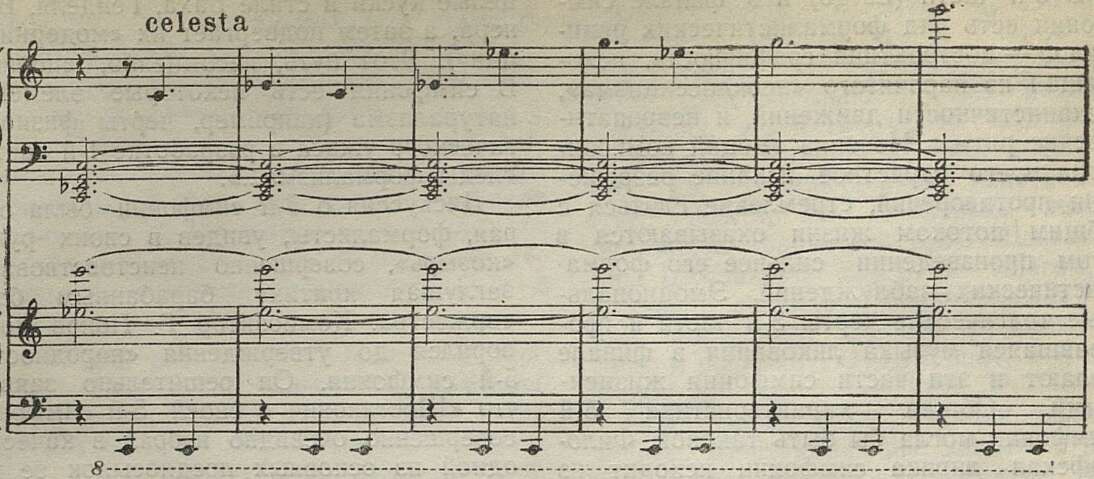
Пьеро погиб. Симфония окончена. Соллертинский обманул читателей.
9. Пятая симфония
После статей в «Правде» 4-я симфония не могла быть исполнена. Это было бы вызовом общественному мнению. Перед Шостаковичем встала серьезная проблема, — как творить и мыслить дальше?
Суровая критика «Правды» оперы «Леди Макбет» и полное крушение «гигантской» 4-й симфонии принесли Шостаковичу глубокие переживания. Эти переживания отразились на его новом произведении — 5-й симфонии, которую он сам впоследствии назвал «творческим ответом советского художника на справедливую критику».
О 5-й симфонии написано огромное количество статей и заметок. Большинство выдающихся и значительных дирижеров исполняет эту симфонию, находя живой и горячий отклик у слушателя. Симфония волнует, вызывает ответные чувства и идеи. Талант Шостаковича, его изумительное знание и ощущение оркестра были видны даже в сугубо формалистических произведениях. Когда же Шостакович несколько отошел от формалистических позиций к отображению живых человеческих чувств, — талант его засверкал еще более.
Можно по-разному трактовать содержание отдельных частей симфонии. Внушителен вступительный четырехтакт — эпиграф, — мужественное обращение к самому себе, призыв к беспощадным ответам на поставленные вопросы. В последовавшей за этим музыкальной повести высказаны разнообразные чувства. Стенания и жалобы, выражающие обиду, сменяются умиротворением и просветлением.
Это умиротворение и просветление сметает страшная наступательная сила, властно влекущая за собой. Бороться с ней невозможно. Нужно отступить. И первая часть симфонии заканчивается выражением подавленности и безысходности.
Вторая часть симфонии, скерцо, рождена стремлением автора вырваться из настроений первой части к свету, к бурному ощущению радости жизни. Так эта часть и была воспринята большинством непосредственных слушателей. Но некоторые критики определяли это скерцо как «фантастический юмор гофмановского духа» (Данилевич). Как известно, трагическое и смешное часто находятся рядом. Уйти от тоски и отрешенности в мир гротеска и смеха, понатешиться над своей тоской и над всем тем, что ее вызвало, было естественно для Шостаковича, всегда имевшего склонность к гротеску и сарказму.
Однако именно скерцо 5-й симфонии меньше всего звучит издевкой и гротеском. В музыке этого скерцо — живой поток истинного веселья, здоровой юмора, занимательной танцевальности.
В 3-й части (Largo) и в финале симфонии есть ряд формалистических рецидивов — абстрактная графичность, исходящая из нарочитого «неоклассицизма», механистичности движений, и невропатические ритмы. Но сила эмоций композитора и его страстное искание разрешения противоречий, стремление слиться с общим потоком жизни оказываются в этом произведении сильнее его формалистических заблуждений. Эмоциональные трагические черты 3-й части и прорвавшаяся музыка ликования в финале делают и эти части симфонии жизненными. Общая характеристика 5-й симфонии могла бы быть таковой. Философская лирика симфонии исходит из искреннего чувства и правдивых мыслей. Эта искренность и правдивость смогла ослабить формалистические путы, владеющие композитором. Но при всей искренности композитору не удалось полностью выйти из своего индивидуалистического мирка. И. Мартынов приписывает 5-й симфонии «бесконечное богатство и разнообразие мыслей» и «целый мир эмоций». С этим нельзя согласиться. «Богатство» мыслей Шостаковича было весьма и весьма ограниченно. Оно действительно ограничивалось выражением только «своих чувств».
Поэтому выводы критики о том, что 5-я симфония — «свидетельство полной победы композитора над формалистическим прошлым», были особенно вредоносными. Первые исполнения симфонии в 1938 году вызвали в композиторской среде дискуссию. Следы этой дискуссии мы находим в газете «Советское искусство»1.
Г. Хубов полемизировал с критиками, которые, неумеренно восторгаясь новыми произведениями Шостаковича, как-то пытались оправдать всё его прошлое. «Такое отношение к композитору, — говорит Хубов, — переживающему процесс глубокой перестройки, может только помешать ему». Заметка сообщает о высказанном Н. Чемберджи ряде замечаний по поводу музыкального языка симфонии: «Чемберджи подверг сомнению те приемы новаторства, которыми пользуется Шостакович (композитор пишет целые куски в стиле Баха, Генделя, Вагнера, а затем подвергает их "модернизации"). Этот путь, несомненно, спорный. В симфонии есть некоторые элементы натурализма (например, черты физиологического ужаса в разработке 1-й части), следы формализма...».
Дискуссия о 5-й симфонии была острая, формалисты, увидев в своих руках «козырь», совершенно неистовствовали, заглушая критику барабанным боем торжества. Композитор Г. Попов договорился до утверждения «народности» 5-й симфонии. Он решительно заявил, что «Шостакович в своей 5-й симфонии совершенно очевидно избрал в качестве одной из основных предпосылок ее построения песенность...»2.
Прошло много времени. Критические голоса совершенно смолкли. Остался только «монблан славословия».
Не сделав должного критического анализа симфонии, музыковеды записывают ее на скрижали советского искусства, как произведение «глубоко современное как по содержанию, так и по средствам выражения». Восхваление и этой симфонии, и всех последующих произведений Шостаковича возрастает в невероятной прогрессии. Перед Шостаковичем падают ниц даже некоторые бывшие враги модернизма (Лебединский, Житомирский и др.). Этот психоз не мог не подействовать прежде всего на самого Шостаковича.
Не успев еще пережить, перечувствовать трагедию своих ошибок, едва поставив проблему «становления личности», он сразу же попал в «классики советской музыки» и в «гении мировой музыкальной культуры». Было от чего закружиться голове! Именно эти неумные подхалимствующие панегирики музыковедов и композиторов и отвратили Шостаковича от глубокого продумывания и осознания статей «Правды».
В большей части своей последующей творческой продукции, кроме, пожалуй, фортепианного квинтета, Шостакович доказал, что он просто пренебрег ими, продолжая стараться, чтобы ничего не напоминало в его музыке славных традиций русской классической музыки, что-
_________
1 От 14 февраля 1938 г.
2 Журнал «Искусство и жизнь», 1938 г., № 2.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 1
- Задачи журнала «Советская музыка» 3
- Адвокаты формализма 8
- О русской песенности 22
- Творческий путь Д. Шостаковича (продолжение) 31
- Идея народности в работах В. Ф. Одоевского 44
- К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки 57
- Из воспоминаний о С. И. Танееве 63
- Памяти М. А. Бихтера 67
- В Московском хоровом училище 70
- Народная русская певица О. В. Ковалева 74
- М. А. Юдин 77
- Литовский композитор Иозас Груодис 79
- Хроника 80
- Дружеские шаржи 89
- По страницам печати 93
- Нотография и библиография 102
- В Северной Корее 106
- Кулиев Ашир — «Ватаным» — «Родина моя» 111



