А. Дроздов
Истоки русского пианизма
Начальные стадии русского фортепианного творчества — не столько забытый, сколько еще не открытый участок истории музыки.
Если не считать чисто музыковедческих экскурсов в область нашего начального пианизма (например в «Очерках по истории русской музыки» Н. Финдейзена или в работе С. Смоленского «Клавесинная музыка в России»), можно сказать, что практическое освоение раннего русского фортепианного наследия еще не начиналось.
За немногим исключением, наши пианисты, имеющие в своем репертуаре солидный запас западной фортепианной литературы — XVIII, XVII и даже XVI вв., — не знают фортепианных произведений русских мастеров XVIII — начала XIX вв.
В равной мере игнорируют русскую фортепианную старину и наши музыковеды и реставраторы. Забираясь все дальше и дальше в глубь веков и стран, они до сих пор не заинтересовались замечательными памятниками русского фортепианного творчества. Например, в обширной реставрационной работе покойного Э. К. Розенова представлено творчество французских, итальянских, немецких, английских и испанских клавесинистов, начиная с XVI в.1; не нашлось места лишь для русской фортепианной старины.
Если нашей слушательской аудитории знакомы имена Гурилева, Есаулова или Варламова, то только или главным образом по вокальному, а не по фортепианному их творчеству; начальная же стадия русского пианизма, фортепианное творчество XVIII в. — для нее сплошное «белое пятно». Между тем для нас особенно ценны и интересны даже немногочисленные памятники раннего русского пианизма, в которых быстрое освоение европейской техники сочетается с ярким и своеобразным народно-песенным началом.
Необходимо покончить с поверхностным скептицизмом и равнодушием в отношении нашего фортепианного наследия. Необходима планомерная и широкая работа по его изучению, критическому отбору и практическому освоению.
Можно считать, что как определенно сложившееся мастерство, заслуживающее не только научного изучения, но и практического (концертного) освоения, наше фортепианное творчество начинается с 80-х гг. XVIII в. («Вариациями на русские песни для клавицимбала или фортепиано» В. Трутовского, П. 1780).
Для первичной стадии его (длившейся примерно около 30 лет) характерны технические приемы классической — по преимуществу моцартовско-гайдновской школы. Ярко выраженное тяготение первых ав-
_________
1 «Новое собрание старо-классических мастеров XVI, XVII и XVIII вв., для клавикорда, клавесина, органа и ф-п.», под ред. Э. К. Розенова. Муз. сектор Гос. изд-ва, 1926.
торов-пианистов к народно-песенному творчеству (их излюбленная форма — вариации на русские песни) носит еще несколько примитивный характер. В использовании песенного начала у них еще много скованности и «буквальности»; вариационные приемы — суховаты и педантичны. Наряду с влияниями моцартовско-гайдновской школы здесь встречаются
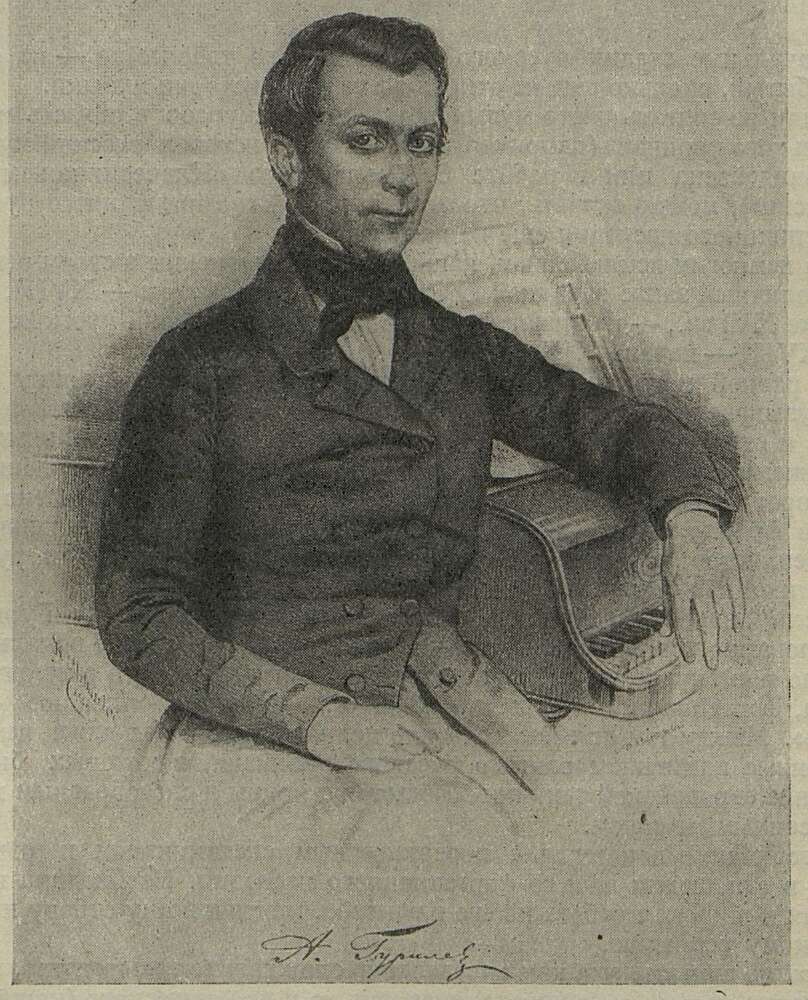
А. Гурилев.
С современной литографии.
следы и других влияний: Бетховена (см. Бирон — «Air russe, varie pour le Forte-Piano»), Баха (Chanson russe — «Как у нашево Широкова двора», variee par Guillaume Paltschau, oeuvre I, а также — полуанонимная «Prelude pour le Pianoforte, compose Fan 1810»).
Следующий период русского фортепианного творчества (примерно — с 1810 г. до половины ХIХв.) отмечен большим разнообразием музыкаль-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Музыканты Народного Фронта 9
- Солдатские песни мировой войны 21
- Композитор И. Дунаевский 28
- Куляш Байсеитова 33
- Ашуг Грикор 39
- Музыкальное творчество кумыков 43
- Истоки русского пианизма 51
- «Сердце гор» (балет А. Баланчивадзе в Ленинградском театре им. С. М. Кирова 68
- «Помпадуры» — А. Пащенко 76
- Перед концертным сезоном 84
- Государственные музыкальные коллективы СССР в предстоящем сезоне 86
- О работе Союзов советских композиторов Украины 89
- В Оргкомитете Союза советских композиторов Украины 91
- Над чем работают украинские композиторы 92
- Над чем работают московские композиторы 93
- Всесоюзные музыкальные конкурсы 94
- 25-летний юбилей К. Г. Мостраса 95
- Выпускники консерватории 95
- Песни советских железнодорожников 96
- В Московском союзе советских композиторов 96
- Конференция музыковедов 96
- По Союзу 96
- Письмо в редакцию 97
- «Школа фортепианной транскрипции» Г. М. Когана 98
- Новые музыкальные издания 106
- Впечатления и встречи 108
- Музыкальная жизнь на Западе 110
- Нотное приложение. «Часовой» 115
- Нотное приложение. «Китайская-партизанская» 118



