Важные послания Александра Вустина
Важные послания Александра Вустина
В этом очерке речь пойдет о 13-минутной фортепианной пьесе Александра Вустина. О какой именно? Давайте чуть поинтригуем.
Когда-то Ростислав Плятт, представляя Серафиму Бирман в Доме актера, заметил, что тут не нужны ни звания, ни награды, ни эпитеты: «Просто — актриса Серафима Бирман, и этим все сказано». Так и здесь: композитор Александр Вустин. Тем более нет у него ни званий, ни наград, ни должностей, ни степеней. И кто бы слышал от него хоть слово недовольства их отсутствием?! Возникает впечатление, что все это очень далеко от его жизни и искусства. И впечатление совершенно искреннее: тем, кто близко знает Александра Кузьмича, никогда и в голову не придет, что коллега их и соратник из-за чего-то недоданного, недополученного переживает и страдает. Все это для него — суетное, наносное, ложное. И нет тут ни капли позерства или лукавства — как невозможно сознательно на протяжении жизни притворяться приветливым и добрым, ибо это не дело разума, но происходит из глубины наших чувств, воли и их способности к любви и добру. Правда, не сказать, что такое равнодушие к внешнему, показному у Вустина врожденное. Здесь явно иное — что-то в молодые еще годы обретенное и навсегда в нем поселившееся. И как ни высокопарно, ни патетично прозвучит, имя этому — Музыка.
Александр Вустин по-настоящему и постоянно занят Музыкой. Музыкой вообще, музыкой в целом, со всеми ее именами, историями, традициями, эстетиками, школами, течениями, направлениями и технологиями1. Его восприятие музыки в чем-то, при всем различии творческих позиций, близко Альфреду Шнитке. Музыка как начало, как явление Вечного и Нетленного. А всякое музыкальное творчество — объективация их необозримых форм, структур и содержаний. И раз так, значит, в музыке все, абсолютно все существует, рядополагается без антиномий и конфликтов. И значит, все музыкальное есть не противоречивое, не различное, но однородное, неизменное, статичное. И значит, все в музыке — ситуация (момент) приближения, постижения чего-то изначального и первозданного. Того, о чем можно догадываться, что можно домысливать, но что нельзя выразить ни словами, ни красками, ни звуками. И тогда нет в музыке ни развития, ни движения, ни прогресса, ни регресса, ни стагнации. Одно только тождество, одна необъятная звуковая незыблемость. Наверное, поэтому Вустин (вот ведь парадокс!) — один из немногих, кто осознает всю бесперспективность музыкального поиска: не только постижение, но даже крохотное знание о музыкальной истине невозможно.
Возвращались как-то с Александром Кузьмичом с концерта, обсуждали, умничали. Хотя концерт выдался унылым и скучным. «Обрати внимание, старик2, — развеселился он, — ум проявляется в словах, а для глупости достаточно примитивного действия. Это я к тому, что музыка не зависит ни от слов, ни от поступков. Она проявляет себя независимо ни от чего, даже от нравственных и этических канонов, но лишь в соответствии с велением чувств. Тогда получается, что музыка — не ум, не глупость и не какой-то из высших канонов». На мой вопрос, «что же тогда творчество музыкальное?», ответил вдруг так же — вопросами: «Выражение своей позиции или точки зрения? Сообщение человечеству чего-то самого главного? Самооправдание или самоочищение? Конъюнктура или идеология? Лестница в небо или дорога вниз? Акт самоутверждения или саморазрушения? Выбирай, что пожелаешь». Вот и пойми нашего Кузьмича!
Отчего бы тогда и опус его выбрать не самый известный, а пребывающий словно поодаль, почти в забвении, в отрыве от нынешнего интереса со стороны исполнителей и дирижеров к музыке Вустина?3 Потому не суть, что написан он более двадцати лет назад, в 1997-м. Речь о фортепианном сочинении «Послание». Послание Эдисону Васильевичу4 (см. пример 1).
Пример 1

Само «Послание» — история с двойной подоплекой. Вначале поступило предложение от Владимира Тарнопольского провести на одном из концертов «Московской осени» 1997 года вечер памяти Денисова из новых сочинений, посвященных ему. Одновременно пианистка Ирина Катаева (неоднократно исполнявшая музыку Вустина) заказала пьесу для своего клавирабенда в рамках фестиваля в Донауэшингене. Решение лежало на поверхности: написать пьесу памяти Денисова для Катаевой.
Катаева сыграла «Послание» в 1997 году в Донауэшингене, на «Московской осени» пьесу исполнил Михаил Дубов. Разные исполнители, разные манеры, темпераменты и толкования. Эмоция и импульсивность Катаевой, рационализм и просчитанность Дубова — все возможно. Вообще же, жизнь Вустина — ряд ключевых, или, как любит говорить Кузьмич, важных5, посланий.
Послание I (cудьба Вустина, или улыбка отца)
«Эдисон Васильевич был больше чем другом, авторитетом, коллегой — судьбой моей жизни. <…> Чем-то напоминал мне отца, может быть, улыбкой» [1, 159–160]. Скажи это кто-то другой, скорее всего, не поверил, принял бы за необходимые для мемориального жанра пафос и умиление. Но Вустин априори не может быть ни пафосным, ни умилительным — это совсем с ним несовместимо! Денисов был для Вустина светочем и олицетворением внутренней (а порой и внешней) свободы. Как и музыка Эдисона Васильевича, сильнейшим образом повлиявшая и в чем-то сформировавшая творческий облик Вустина. Ведь целостность и единство денисовского художественного стиля можно сравнить с творчеством только двух авторов, стилистически совершенным, прозрачным и кристально ясным, — Глинки и Веберна. Удивительная чистота и, главное, красота денисовского стиля — явления того же порядка. Повторить его — задача непосильная даже для таланта неординарного. Выбраться из-под пяты денисовского стиля и влияния удалось немногим. У Вустина получилось. Причем, кажется, без особого напряжения. Однако сочетание в его музыке лиризма и действенности, серьезнейшего самоограничения и раскованности, высочайшей технологичности и интонационной свободы, линеарной тонкости и ударной мощи, хрупкости и сильнейшего напряжения с концентрацией информации на единицу музыкального времени… Есть, есть в этом нечто денисовское6.
Послание II («серия жизни» и обиходный звукоряд)
Начну с более чем уместной цитаты: «С 1975 года А. Вустин использует универсальную 12-тоновую серию, которая стала основой его музыки вплоть до настоящего времени: b d e dis fis c a h f g as des. Уникальность его серийного метода заключается прежде всего в использовании принципиально одной серии, на основе которой создаются совершенно разные по жанру, составу и художественной направленности сочинения» [2, 43]. 12 непоколебимых тонов на всю оставшуюся творческую жизнь и для всех последующих произведений!
Существуют разные версии рождения этой «серии жизни». Авторская такова: она появилась во время работы над оперой «Влюбленный дьявол» в начале 1970-х7. Испробовав технические возможности серии в разных сочинениях той поры, Вустин настолько расширил ее ресурсы и границы, что трансформировал в некий бесконечный (мегаполивариантный) принцип (о нем — в следующем послании). Да так трансформировал, что вышло нечто уникальное, мало с традиционной серийностью соотносимое. И при огромной любви к одному из кумиров молодости — Антону Веберну — «серия жизни» у Вустина скорее берговская, тонально-модулирующая из b в des (из минора в параллельный мажор).
Только и этого оказалось недостаточно. Не без влияния идей Юрия Буцко Вустин использует наряду с 12-тоновой техникой и специфику обиходного звукоряда (или, по Вустину, технику сцепленных тетрахордов), еще более наращивая собственный композиционный потенциал и придавая музыке скрытый модальный контекст8. Сцепленные тетрахорды для Вустина (употребим его «системообразующее» слово) важны, ведь квартовость лежит в основе большинства музыкальных культур и традиций и, значит, содержит нечто трансцендентное, архетипическое и надвременно`е. Приведу фразу АВ на одном из заседаний АСМ (за дословность не ручаюсь, но смысл верен): «Мы, музыканты, изучая свой предмет, не столько познаем его азы, закономерности, методы, формы, сколько воссоздаем, восстанавливаем в памяти то, что давным-давно известно, но по неизвестным причинам утеряно и позабыто».
Послание III (магия, или искушение числом 12)
Бесконечный (мегаполивариантный) принцип Вустина (о котором обещалось чуть выше) — принцип двенадцатикратности9.
Прежде всего отметим, что магия числа для Вустина имеет не меньшее значение, чем магия нотных знаков. А число 12 — так вообще из категорий то ли мистических и внеземных, то ли, напротив, естественных и обусловленных. Послушать Вустина, выйдет, что число 12 исходит из коллективного подсознания. И примеры он приводит убедительные: 12 месяцев, 12 знаков Зодиака, два раза по 12 — сутки, через каждые 12 — циклическое повторение годовых символов, 12 полутонов темперации, 12 ликов жизни и смерти…10 Если коротко о вустинской двенадцатикратности, то одной только цифрой 12 не обойдешься. Вустину понадобилась еще «дюжина дюжин».
Есть 12-тоновая серия. Есть неукоснительно соблюдаемые формы, расположения и транспозиции серийных рядов. Есть особая система, благодаря которой звуковысотные параметры серии обуславливают и тип метрического развития, где звукам серии соответствуют временны́е формы. Из 12 тонов проистекают 12 ритмических микроструктур (элементов), состоящих из двух- или трехтактов или же из ряда точных длительностей: четверть, половинная… Причем каждый элемент коррелируется с последовательностью серийного ряда: первый привязывается к первому звуку серии, второй — ко второму, и так далее. Чтобы не утомлять излишней аналитикой (тем более привел ссылки, где все это сделано много лучше11), добавлю лишь, что посредством всевозможных числовых, звуковых, структурных, метроритмических комбинаций и трансформаций создается 12 ключевых моделей, вбирающих в себя 144 (12 на 12) основных, ракинверсионных, ракоходных и инверсионных ряда. И где развитие моделей подчинено закону найденного числа и выведенной формулы. 12-тоновость трансформируется в 12-кратность, и наоборот: возникает что-то вроде магического квадрата, замкнутого пространства, детерменированного вертикально-горизонтального движения, где цифра 12 пронизывает все элементы композиционного языка. Строжайший математический расчет и жесточайшая структурированность авторской мысли — такова магия двенадцати, или таково искушение двенадцатью Вустина-композитора.
Его двенадцатикратная система еще более педантична и сурова, нежели строгая и аскетичная додекафония Веберна. Впрочем, это очень по-вустински — ограничить себя, создать искусственные законы и барьеры, чтобы, действуя в их пределах, нарушать, преодолевать, находя таким парадоксальным образом свой, нет, не стиль, но самобытный язык. А свой язык, на мой взгляд, — явление более масштабное и значимое, чем свой стиль.

Фото: Анисия Кузьмина
И еще один вустинский парадокс: создав себе предельно регламентированную 12-кратность, он тем не менее сочиняет интуитивно, без особых внутренних ограничений. Наверное, именно этим — интуитивностью, не привязанностью к догме — объясняется появление в музыке Вустина неких случайностей, неожиданных, как бы сказали сторонники схем и построений, «ляпов», немотивированных вклиниваний, нарушающих строгость системы. Как шутит Вустин, в его музыке немало свободных от системных обязательств непредвиденных звуков, ритмов, аккордов и даже тембров. Так, например, притчей во языцех для музыковедов стала случайность? нелепость? ошибка? Вустина в «Белой музыке» для органа (1990), где композитор в «серии жизни» вдруг пропустил ноту des. Но вместо того чтобы ее исправить, он превратил эту вольность в новое композиционное переживание. Пожалуй, в музыке Вустина трудно найти произведение, где бы в той или степени не присутствовал «эффект случайности», превращенный автором в увлекательную музыкальную игру.
Стремление к интуитивному творчеству, по Вустину, началось со «Слова для духовых и ударных» (1975) — опуса, написанного еще до появления двенадцатикратности и серийности. В «Слове», утверждает Вустин, нет «никакой двенадцатикратности, оно даже не серийное. Оно первое в понимании музыки как действенной силы, которая включает в себя окружающее пространство и слушателей» [5, 142]. Действенность — еще одно важное слово для Вустина.
Послание IV (ритуал, действенность и лиризм)
И вновь начну с цитаты: «Уже в первых сочинениях Вустина наметились две линии его будущего творчества: “Три стихотворения Моисея Тейфа” и “Кантата на стихи военных лет” посвящены теме войны и потому насыщены драматическими образами, а Струнный квартет и Симфония воплощают иную — лирическую линию. Эти две сферы — действенная и лирическая — объединяются в будущих сочинениях Вустина» [3, 223]. Но до разговора о действенности и лирике — пара строк еще об одной важной для Вустина данности.
Данность эта — идея ритуала, музыкального шаманства, очерчивания магического круга, в который непроизвольно втягиваются и исполнители, и слушатели. Ритуал и как отблеск ушедшего золотого века, где звук, речь, жест, движение существовали едиными и неразделимыми.
Было дело, говорили с Вустиным о чем-то древнем, архетипическом — вроде мельком, второпях говорили. А вот запала одна мысль Александра Кузьмича — о том, что архетипическое независимо от нас врезается в память и живет в ней дольше любых впечатлений от книг, слов и текстов. И еще запомнилось, как в уличной суете и гаме АВ, как у него часто бывает (почти как его внезапная случайность в музыке), перешел неожиданно к Кейджу и Прусту — что Кейдж, мол, со своим «весь мир — музыка» вытекает из Пруста, для которого музыкой стала вся жизнь: утренние крики продавцов, автомобильные гудки, шум ветра, звон колоколен, гул аэроплана, колыхание деревьев, занавесок, шуршание платьев, простыней, цвет стен, картин, вплоть до чашки утреннего чая и булки, вплоть до ароматов и вкусов…
Концепция же вустинской действенной композиции, когда слушатели, наряду с исполнителями, осознаются как немые соучастники происходящего, вытекает из ритуальной действенности. И в музыке АВ, как и в ритуале, происходит неуклонное нарастание динамической линии, постепенно захватывающей все большее звуковое пространство на сцене и вне ее. Действенность музыки АВ во многом реализуется посредством богатейшего ударного инструментария и придания ему особой драматургической, тембровой, колористической, сонорной, ритмически разнообразной функции. Многочисленные партии ударных АВ, безусловно, есть строгий композиционный расчет, обусловленный 12-кратной системой, но одновременно это, подобно ритуалу, сакрализация ударных тембров, наделение их (особенно столь любимого АВ большого барабана) неким иррациональным, мистическим смыслом. Ударные в опусах АВ — что-то вроде первичных сил природы, оттого так много в них стихийных, пантеистических порывов (например, в «Memoria-2», Концерте для ударных, клавишных и струнных, 1978; «Празднике» для хора и оркестра, 1987; Танго «Hommage à Guidon» для скрипки, струнного оркестра и ударных, 1997; «Sine Nomine» для оркестра, 2000), которые всегда сами по себе и под которые подстраивается все остальное. Понятно, что ударными не исчерпываются вустинские искусство, оркестр и композиционное мышление; это всего лишь часть музыки Александра Кузьмича, но часть обособленная, нарочито индивидуализированная. Связан ли феномен вустинских ударных с каким-то сугубо личным впечатлением или на то были объективные причины, обусловленные резким усилением ударной группы в музыке ХХ века, сказать сложно, но не покидает ощущение, что они пришли в его музыку вначале в виде исключения, случайности, со временем став необходимостью.
Ну а вустинский лиризм… Тут даже рассуждать нечего. Послушайте любой из его опусов: в них есть место и трепету, и страху, и нежности, и печали, и боли, и неизбывному возвращению, возвращению, возвращению… Впрочем, если допустить, что в искусстве есть правило для всех, а есть правило для свободных, то в отношении Вустина можно сказать так: есть лирика, встречающаяся у всех, а есть лирика, присущая лишь его музыке.
«Послание» V (фактор образный и эмоциональный)
Теперь, собственно, к самому «Посланию». Двухчастный цикл, неспешный, неторопливый, статичный. Первая часть — Largo; вторая, идущая attacca, Sostenuto (см. пример 2). Цикл диспропорциональный: вторая часть почти втрое протяженнее заглавной. Первая — более скорбная, пронзительно-печальная; сам Вустин характеризует ее как «горестную и ламентозную» [4, 294] (хотя мне чудится в начальной части нечто сильнее ламентозности — нотки трагизма и не проходящей боли). Вторая — чуть более денисовская, трепетнее, быстрее и не такая беспросветная. При явном формально-структурном несоответствии и различии эмоциональных оттенков частей, воспринимать и, главное, исполнять их следует как единый цикл — особенно учитывая тот момент, что финальная часть в своем движении неизменно апеллирует к фактурно-интонационным элементам первой. В каком-то смысле, первая часть — развернутое вступление, прелюдия, но скорее — обозначение тех событий, которые во второй части должны начаться. Но вот ведь еще один вустинский парадокс (случай, непредвиденность): и вторая часть, даже где-то принимая интенсивный характер, останавливается там, где действие только готовится. Тоска, печаль, утрата, неизбывная грусть и даже некое просветление лишь фиксируются, неторопливо наплывают и, практически не развиваясь и не динамизируясь, превращаются в статичное дление. Помнится, вещие пушкинские сны автором неизменно манифестировались: «И снится чудный сон Татьяне…». Так и здесь: «Вот оно, застывшее, неподвижное горе, которое я всегда буду носить в себе и в котором по сей день вижу некое пророчество и предвидение».
Пример 2

Впрочем, это только одна из возможных трактовок «Послания». Тогда как есть и иная версия: на языке скорби надо говорить осторожно, осмотрительно, а не то, как сказывал Гамлет, «мы погибнем от двусмысленности». И именно поэтому язык (мир) вустинского «Послания» — язык (мир) медитативного состояния и дления, а не действенного выражения и кричащих эмоций. И это глубочайшее внутреннее сосредоточение также крайне важно учитывать исполнителям. Наконец, еще одна интерпретация пьесы Вустина — та, где нет линейной фабулы повествования и развития, но есть скрытый «семантический параллелизм» и смысловое (а может, эмоциональное) раздвоение трагического образа. С одной стороны, скорбь от потери большого мастера, учителя, старшего друга. С другой — причудливые переклички с некогда испытанным и пережитым, переплетение эмоций сегодняшних и давних, ушедших. Словно явь и память в замысловатых сочетаниях вустинского «Послания».
Однако все это не более чем толкования.
«Послание» VI (фактор фактур, или движений)
Но прежде переиграем вустинское важно на наше не важно.
Итак: что в «Послании» не важно? Как ни кощунственно, но это «серия жизни» и двенадцатикратность, естественно, в опусе присутствующие. Ибо все это не более чем «кухня» композитора, о которой знать необязательно. Тем паче сам автор регулярно подчеркивает: менее всего ему бы хотелось, чтобы в его музыке замечали серийность и кратность вместо самой музыки.
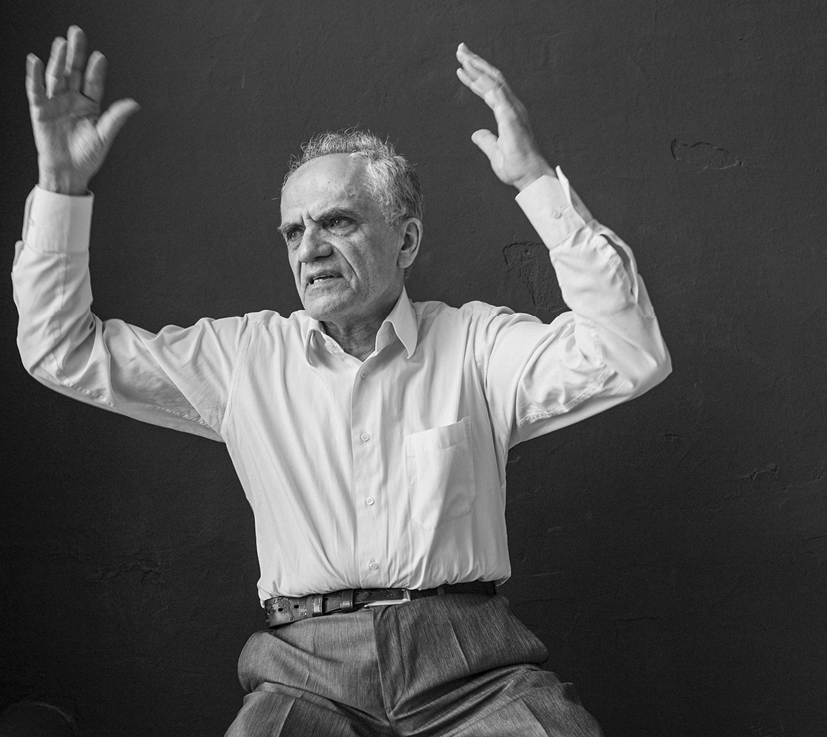
Фото: Анисия Кузьмина
Второе не важно — как исполнять «Послание»: нутром, зовом сердца, вживаясь в мир звуков Вустина или, напротив, голосом рассудка, дистанцируясь и наблюдая его со стороны. Выбор только за исполнителем.
Ну а теперь коротко к аналитике — точнее, к типам фактур (или движений) «Послания», значение которых в опусе решающее.
В пьесе — четыре типа разнорегистровых и разновысотных движений: медленно развертываемое гаммообразное; неторопливо разбрасываемое пуантилистское; неспешное кластерно-пуантилистское; чуть оживленнее и взволнованнее трелеобразное. Сохранять и постоянно учитывать эту статическую составляющую «Послания» — пожалуй, единственное, что для исполнителя обязательно.
В Largo типы фактур практически не пересекаются, развертываясь самостоятельно и индивидуально, поэтому настроение (образ) неизменно-статическое и медитативное. Краткое исключение — эпизод più mosso (цифры 4–6), в основном трелеобразный, кульминация части12 (см. пример 3).
Пример 3

Предположу, что più mosso — в чем-то преддверие Sostenuto, где, по словам Вустина, он отдает дань ранним додекафонным пьесам Денисова. И более всего — дань фактурную. Видимо, этим обусловлено то, что фактуры (движения) тут взаимодействуют, стыкуются, входят друг в друга, сохраняя при этом денисовскую ясность и стройность. И кажется — уж не знаю, насколько я здесь прав, — все это для того, чтобы, чуть усиливая и нагнетая эмоцию, подвести к финальному чисто эдисон-васильевическому ре мажору (едва ли не главному символу музыки Денисова). Не без вустинского, правда, фа-бекарного вкрапления — этакий денисовский свет13, но чуть замутненный (см. пример 4).
Пример 4

Возможно, этим же финальным ре мажором предопределено и усиление в Sostenuto (по сравнению с Largo) денисовской интонации-монограммы d-e-es.
Словом, «Послание» — опус для исполнителя не самый легкий (но и не самый сложный), допускающий разность подходов и трактовок. Опус, где, несмотря на фактурно-движенческое разнообразие, практически нет ни одной лишней ноты (и это при наличии нот для Вустина случайных!), что накладывает на исполнителя особую ответственность. И последнее: «Послание» — опус, рожденный не абстракцией, а фантазией.
Послание-post (или postПослание)
Есть у Александра Кузьмича «Эпиграф» для органа, написанный по просьбе органистки Людмилы Голуб для вступления к денисовскому концерту в Париже и тогда же ею сыгранный. «Эпиграф» этот настолько хорош в общей линии «денисовской» музыки Вустина, что вполне был бы уместен в концерте в качестве эпиграфа к фортепианному «Посланию». И поверьте, вариант этот вышел бы беспроигрышным.
Литература
- Вустин А. Несколько слов о Денисове // Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Статьи. Воспоминания. Материалы / ред.-сост. В. Ценова. М.: Московская консерватория, 1999. С. 159–160.
- Северина И. Творчество Александра Вустина: высшая упорядоченность или первичный хаос? // Музыкальная академия. 2003. № 4. С. 43‒49.
- Ценова В. Александр Вустин: поле битвы — душа // Музыка из бывшего СССР. Сборник статей. Выпуск I / ред.-сост. В. Ценова, ред. В. Барский. М.: Композитор, 1994. С. 223–240.
- Шульгин Д. И. Музыкальные истины Александра Вустина. Монографические беседы. М.: Композитор, 2008. 354 с.
- Амрахова А. Александр Вустин. Без названия. Или еще одна попытка сформулировать невыразимое // А. Амрахова. Современная музыкальная культура. В поисках самоопределения. М.: Композитор, 2017. С. 137–157.




Комментировать