Влияние холодной войны на новую музыку
Влияние холодной войны на новую музыку
На протяжении жизни уже нескольких поколений в разговорах о музыке особое значение придается ее оригинальности. Бывает и так, что мы ценим произведения прежде всего за их новаторский характер. Такой метод оценки связан прежде всего с убежденностью (западно)европейцев в том, что искусство является территорией свободы и экспериментов, тогда как одобрение его публикой имеет второстепенное значение, а для некоторых является даже признаком банальности или беспринципности, не подобающих настоящему художнику. Для тех, кто придерживается такого подхода, девизом могут служить слова Ферруччо Бузони из его «Эскиза новой эстетики музыкального искусства»: «задача творца состоит в том, чтобы устанавливать новые законы, а не творить в соответствии с законами» [2, 31], — а также мнение Арнольда Шёнберга, адвоката элитарной музыки: «Если это искусство, то оно не для всех, а если для всех — это не искусство» [5, 124]. Тем временем, оглядываясь на историю европейской музыки, причем именно той, которая подарила миру Бузони и Шёнберга, мы отчетливо видим, что шедевры веками создавались в условиях, отнюдь не располагающих к подобным утверждениям.
Идея автономности музыки и абсолютной свободы творчества формировалась постепенно, начиная с XIX столетия. Истории музыки, написанные в XX веке, по большей части представляли собой сочетание хроники инноваций с портретами «гениев», ценившихся прежде всего за их новизну. И хотя музыканты и организаторы концертов отдавали предпочтение таким композиторам, как Рахманинов, Равель и Сибелиус, музыковеды концентрировали свое внимание на произведениях Вареза или Веберна. Можно было бы считать это спецификой музыкального искусства, если бы данная установка не стала в какой-то момент элементом культурной политики, проводимой правительствами некоторых стран. Императив творческой свободы либо возносился на пьедестал, либо вызывал крайне враждебную реакцию — последнее имело место в Третьем рейхе и в СССР, а затем и в дружественных ему странах социалистического лагеря. Отношение к вопросу свобод отдельного человека непосредственно сказывалось на отношении к проблеме свободы в искусстве, а в итоге и на создаваемых композиторами произведениях. Именно этому аспекту будут посвящены мои дальнейшие рассуждения — рассуждения не только наблюдателя, но и непосредственного участника описываемых событий.
В XIX веке утвердился новый подход к искусству: в художнике видели не столько уникальную личность, сколько представителя «народа». Эта идея немецких философов нашла благодатную почву в странах Центральной Европы — в том числе в Польше, — а также в России. В ХХ веке понятие «народ» стало отождествляться с государством. Об этом свидетельствует культурная политика, которая почти параллельно реализовывалась двумя тоталитарными режимами — в Советском Союзе и в нацистской Германии. Как следствие, искусство являлось там орудием пропаганды (как, впрочем, это случалось и раньше: Церковь считала, что искусство должно служить распространению истины веры, а светские правители, например Людовик XIV, привлекали лучших артистов, чтобы те своим творчеством демонстрировали их власть и богатство). Тоталитарные системы ХХ века, узурпировавшие право говорить от имени «народа», требовали от композиторов музыки, понятной «широким массам». Авангардные сочинения, плод веры в ценность человека и его творческой фантазии, преследовались как извращения: составлялись списки запрещенных авторов и произведений, которые, по мнению идеологов, относились либо к категории «entartete Kunst», то есть «дегенеративного искусства» (в Германии), либо к категориям формализма или космополитизма (в СССР).
Ранее подобный конфликт между безудержной фантазией художника и ожиданиями масс был невозможен. Свидетельства о первых радикальных переменах в музыке, вроде средневековой Ars nova или новаторских по своим временам мадригалов Монтеверди, ограничивались полемикой в узком кругу интересующихся музыкой лиц (наблюдения Филиппа Витрийского, критика Артузи). В XVIII столетии, когда сформировались издательский рынок и общедоступная концертная жизнь, такие столкновения вкусов стали вызывать более сильный резонанс, но композитору, чья музыка не получила признания, не угрожало ничего, кроме злобных нападок критиков, а также равнодушия издателей и исполнителей. Между тем в ХХ веке, когда искусство стало предметом интереса политиков, автор, не оправдавший ожидания властей, рисковал нажить более серьезные неприятности.
В тоталитарных государствах композиторы оказались в ситуации ремесленников, которые когда-то объединялись в цеха. Тому, кто хотел заниматься дальше своей профессией, нужно было стать членом единого Союза композиторов или Имперской палаты музыки. Те, кто пытался сохранить независимость и отказывался подчиняться навязываемым эстетическим нормам, в лучшем случае лишались возможности публиковать свои произведения и представлять их на концертах, поскольку этому препятствовали государственные учреждения. В Третьем рейхе развитие музыки застыло на этапе классико-романтической эстетики. Вершинами музыкального творчества считались сочинения истинно немецких по своему духу композиторов — Бетховена, Вагнера и Брукнера, а большинство произведений наиболее выдающихся современных авторов — Стравинского, Хиндемита, Бартока — осуждались как «зловещие новообразования оргиастического диссонанса» и «дегенеративная музыка». В Советском Союзе музыке полагалось быть доступной, то есть мелодичной, благозвучной, напоминающей народные песни и танцы — желательно русские.
Вторая мировая война нарушила устоявшийся порядок. Существование антигитлеровской коалиции было недолгим — мир разделился, и наступила эпоха конфронтации, получившая название «холодная война» (эту формулировку впервые использовал в 1947 году американец Бернард Барух). Конфликт, разворачивающийся главным образом в сфере идеологии и пропаганды, наложил отпечаток и на музыку того времени.
В Советском Союзе начался процесс еще более интенсивной, чем до войны, политизации музыки. В 1946 году Андрей Жданов напомнил творческой интеллигенции, что соцреализм по-прежнему является единственным направлением в советском искусстве.
Партийные резолюции требовали полного избавления от западных влияний, характеризуя их все без разбора как воплощение деградации и всеобщего упадка культуры. Поскольку чехи испытывали к России симпатию, а Прага, в отличие от Варшавы и Берлина, почти не пострадала за время войны, именно этот город в 1948 году стал тем местом, в котором композиторы и музыковеды из подчиненных СССР стран получили директивы о необходимости творить в духе соцреализма. Год спустя на съезде Союза композиторов в Лагуве (Любушское воеводство) такие же указания были даны польским авторам. В Восточной Германии, где командный стиль управления музыкой сохранялся с небольшими перерывами с 1933 года, теперь, когда нацистская диктатура сменилась коммунистической, место ведущих композиторов Третьего рейха — Рихарда Штрауса, Ханса Пфицнера, Карла Орфа — заняли партийные и государственные функционеры. В период между войнами художники проводили время в кафе, а теперь они заседали на бесконечных совещаниях и конференциях. О свободе творчества уже не было и речи — порабощенными были не только умы, но и творческая фантазия.
В ответ на ситуацию, возникшую по восточную сторону железного занавеса, в 1950 году в Западном Берлине под эгидой ЦРУ был создан Конгресс за культурную свободу (Congress for Cultural Freedom); в руководстве этой организации находились в основном эмигранты из Восточной Европы (см. илл. 1). Документы из американских архивов, которые были изучены в конце ХХ века, не только позволяют судить о масштабе этого предприятия, но и заставляют по-новому посмотреть на положение искусства, в том числе музыки, в Западной Европе пятидесятых и шестидесятых годов.

Илл. 1. Заседание Конгресса за культурную свободу (Западный Берлин, 1950)
Fig. 1. Meeting of the Congress for Cultural Freedom (West Berlin, 1950)
Фото: historiathek.de
Одной из первых инициатив Конгресса стал Фестиваль современной музыки, организованный в мае 1952 года в Париже. Программу составлял генеральный секретарь Конгресса — композитор Николай Набоков, двоюродный брат известного писателя. Серия концертов и художественных выставок должна была продемонстрировать зрителям и слушателям, что благодаря западной системе поддержки артисты обладают полной свободой творчества и создают оригинальные произведения высокого качества. Четыре года спустя, пользуясь «Гомулковской оттепелью», поляки решили организовать собственный фестиваль современной музыки, получивший впоследствии известность как «Варшавская осень». В переговорах с властями организаторы выдвинули примерно ту же аргументацию, что и Набоков при подготовке парижского мероприятия: мы хотим показать преимущества нашей культуры и нашего строя. В Париже противником был коммунизм, в Варшаве — капитализм. В обоих случаях государство, выступая в роли мецената, соблазнилось перспективой продемонстрировать свое превосходство над политическим оппонентом.
Фестиваль в Париже прошел с большим размахом. В его рамках состоялись более тридцати концертов и одиннадцать оперных спектаклей, на которых были исполнены, в частности, некоторые произведения отвергнутого советской властью Игоря Стравинского, фрагменты оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», осужденной самим Сталиным, а также несколько запрещенных в России произведений Прокофьева. Парижане имели возможность послушать произведения Арнольда Шёнберга, считавшегося в СССР одним из главных «ликвидаторов» музыки, и увидеть оперу «Воццек» Альбана Берга, которую нацисты относили к разряду «entartete Musik». Публика была в восторге, но левацкая группа интеллектуалов старшего поколения сочла фестиваль «заговором американских империалистов», а молодые композиторы, среди которых был и Пьер Булез, обвинили устроителей в консерватизме. В этой ситуации следующий фестиваль 1954 года Набоков организовал в Риме, включив в программу произведения, созданные почти исключительно по правилам двенадцатитоновой техники. Почему? Ключ к объяснению подобного успеха музыки, известной до войны только узкому кругу любителей тогдашнего авангарда и воспринимавшейся многими весьма критически, следует искать в Западной Германии.
Вскоре после войны там было предпринято множество инициатив для популяризации запрещенного в Третьем рейхе репертуара. Этой цели должны были служить Международные летние музыкальные курсы в Дармштадте, проводившиеся с 1946 года. Их программа предусматривала знакомство как с сочинением, так и с интерпретацией новой музыки; для преподавания пригласили нескольких композиторов и музыковедов, которые в тридцатые годы вынуждены были эмигрировать в США. Таким образом новизна в искусстве стала атрибутом вновь обретенной свободы, а ее значение вышло далеко за пределы эстетики. Это напоминало ситуацию после Первой мировой войны: активизация авангардных течений в тот период также была во многом связана с социальными потрясениями, пережитыми Европой в 1914–1918 годах, и с потребностью отмежеваться от культуры, вызвавшей эти катаклизмы. Теперь благодаря дармштадским курсам и музыкальным редакциям радиостанций в Баден-Бадене и Кёльне слово было предоставлено поколению композиторов, для которых автономия искусства и индивидуальность конкретного художника являлись абсолютными ценностями — как реакция на довоенную, фашистскую политику по отношению к музыке. Среди них были: немец Карлхайнц Штокхаузен, француз Пьер Булез, итальянцы Луиджи Ноно и Лучано Берио, венгр Дьёрдь Лигети, аргентинец Маурисио Кагель; несколько позже к ним присоединился Джон Кейдж.
Молодежь решила фундаментально трансформировать музыкальный язык, начав историю «с нуля». Отцом новой музыки провозгласили Антона Веберна, самого радикального ученика Арнольда Шёнберга. Сутью революции, предложенной Веберном в своей музыке, был отказ от — говоря метафорически — эпического нарратива традиционных симфоний и концертов в пользу крайней афористичности. Небольшие, продолжительностью всего несколько минут, пьесы не предлагали слушателям каких бы то ни было мелодий, а роль традиционных тем порой исполнял лишь отдельный звук. В этих произведениях не осталось и следа от традиционной гармонии, поскольку основой композиции стали совершенно иные, необыкновенно строгие принципы сочетания звуков, отчего противники Веберна говорили, что тот создает звуковые ребусы, которые больше подходят для анализа, чем для прослушивания. Такая музыка была провозглашена ориентиром для композиторов, а поскольку маргинализация наследия Шёнберга и его учеников была признана результатом политических преследований (симпатии Веберна нацистам по такому случаю были преданы забвению), считалось, что уже на одном этом основании она заслуживает к себе особое отношение. Эту позицию поддержал влиятельный немецкий философ и музыковед Теодор Адорно; в изданной в 1949 году «Философии новой музыки» он безапелляционно утверждал, что будущее музыки — исключительно в додекафонии. Впоследствии Пьер Булез сформулировал эту мысль еще более радикально, заявив, что композиторы, которые не сочиняют в додекафонной технике, совершено бесполезны. В мае 1949 года в Милане состоялся Первый международный конгресс двенадцатитоновой музыки, который был призван убедить и доказать, что после краха тональной системы наступила эпоха додекафонии.
Это явление наверняка так и осталось бы на обочине истории современной музыки — подобно экспериментальным и провокационным концертам, организованным после Первой мировой войны, — если бы не благоприятная для него политическая и экономическая ситуация. В тридцатые годы источники финансирования искусства осушил экономический кризис, попутно охладел интерес к экспериментам. Теперь же благодаря новой политической атмосфере и финансовому участию государственных структур додекафония и атональность были объявлены голосом западного мира — подобно тому как соцреализм стал музыкальным голосом стран коммунистического блока. Композиторам-бунтарям дали возможность представлять свое творчество на фестивалях новой музыки и на радиоконцертах (в программы обычных концертных абонементов их сочинения попадали редко, а если и попадали, то вызывали остронегативную реакцию публики и критиков). По мере того как европейская экономика восстанавливалась после военных разрушений, а в Западной Германии наступало время «экономического чуда», увеличивающиеся бюджеты радиостанций, местных культурных учреждений, фондов (как, например, голландский «Гаудеамус») и исследовательских организаций (таких как парижский IRCAM) позволяли продвигать столь необычную музыку, обеспечивая ее авторам неплохие материальные условия. Фестиваль в Донауэшингене — до войны возможность организовать несколько камерных концертов существовала лишь благодаря поддержке владельца местной пивоварни — разросся до цикла широко разрекламированных мероприятий с участием симфонического оркестра. Щедрыми меценатами стали, в частности, кёльнское Западно-Германское радио (Westdeutscher Rundfunk), гамбургское Северно-Германское радио (Norddeutscher Rundfunk), баденское Юго-Западное радио (Südwestfunk) и берлинское Радио в американском секторе (RIAS).
На смену догматам национал-социалистического искусства или искусства социалистического реализма пришел догмат авангарда. Решение о «правомерности» принимали теперь уже не политики, а само музыкальное сообщество, которое оказалось столь же нетерпимым к иным художественным позициям и взглядам. Это сообщество не обладало рычагами административного давления и, тем более, возможностью карать несогласных, но зато обрекало недостаточно революционных музыкантов на маргинализацию и небытие в мире так называемой новой музыки. Помню, как в шестидесятые годы в Польше эта судьба постигла многих моих старших талантливых коллег. Нападки на музыкальное наследие прошлого становились все более энергичными, последовательно разрушая существующие ценности, — к растущему недоумению и неудовольствию слушателей. «Наконец-то публика поняла, что есть три вещи, из которых нельзя создавать музыку: мелодия, ритм и гармония», — утверждал Булез, являя пример исключительной нетерпимости к каким-либо иным точкам зрения (цит. по [3, 12]). Французский композитор зарекомендовал себя ярым противником традиции, что в очередной раз подтвердил в интервью, которое он дал в 1957 году журналу «Der Spiegel», где, рассуждая об анахронизме жанра оперы, объявил, что «самым элегантным решением» проблемы было бы «взорвать все оперные театры» (спустя многие годы из-за этого высказывания известные своей педантичностью швейцарские полицейские арестовали развлекающегося в Цюрихе почти уже восьмидесятилетнего к тому времени маэстро как потенциального террориста). Таким образом возникла своеобразная симметрия. На Востоке с диссонантной и атональной музыкой боролись, заклеймив ее как «формалистскую», а на Западе в это же время наиболее радикальные адепты авангарда умаляли ценность благозвучных произведений, объявляя их «фашистскими».
Невозможно переоценить ту роль, которую сыграли эстетики искусства и музыковеды, сторонники авангарда, в формировании сознания целого поколения западных композиторов. Их усилиями музыка, ранее создававшаяся для исполнения и слушания, превратилась в запись, предназначенную главным образом для ее анализа. Предметом тщательнейших исследований становились отношения между звуками, которые, базируясь на умозрительных принципах, абстрагировались от звучания и возможностей слухового аппарата. Под конец пятидесятых годов дело дошло до того, что американский композитор и математик Милтон Бэббитт даже выступил с предложением признать за музыкой такой же статус, какой имеют точные науки. Поскольку, аргументировал он, контакт с современной музыкой требует подготовки, которой обычный посетитель филармонии или оперы не имеет, то оценивать такие произведения, руководствуясь вкусом широкой публики, нельзя — как никто не ожидает от людей, знакомых с азами арифметики, что они будут высказывать свое мнение относительно докладов, представленных на математическом конгрессе.
«Лекарством» в этой ситуации стала прямо противоположная тенденция, которую можно выразить слоганом: «Композитором может быть любой». Ее «духовным отцом» был Джон Кейдж. Как и Веберн, он учился у Шёнберга, но избрал совершенно другой способ обесценивания европейского понятия музыки. На смену господствовавшему в пятидесятые годы формализму в следующем десятилетии пришла убежденность, что важно не «произведение», а «акция», где главную роль играет случай.
В Польше благодаря оттепели конца пятидесятых мы пережили насколько аналогичных волн увлечения — сначала строгостью письма, которая производила впечатление на бумаге, а потом полной свободой высказывания и отсутствием каких-либо границ. Некоторое время публика разделяла наше увлечение, поскольку такая музыка с восточной стороны железного занавеса воспринималась как воздух свободы. В двадцать с чем-то лет я был пианистом в краковском ансамбле, исполнявшем именно такой репертуар. Ансамбль назывался «MW2», что означало Młodzi Wykonawcy Muzyki Współczesnej (Молодые исполнители современной музыки). Одним из наших «хитов» было сочинение, во время исполнения которого я лаял и бросался в публику горохом.
И тогда произошло то, о чем предупреждал Луиджи Ноно — один из корифеев «строгого» авангарда. Такой подход к музыке распахнул двери для всяческих аферистов и дилетантов. Я стал свидетелем этого годы спустя, увидев, какие псевдопартитуры приносили на экзамен студенты-композиторы своему преподавателю — моему коллеге из Кёльна. Однажды вся дипломная работа состояла из маленькой точки в окружности, а в другой раз это были три такта, переписанные из Сонатины Клементи. Для занятия таким «творчеством» никаких традиционных навыков, естественно, не требовалось, а некоторые даже сопротивлялись изучению инструментовки. В результате среди моих коллег-педагогов были такие композиторы, которые, например, считали, что для арфы сочинения пишутся точно так же, как для фортепиано.
В период максимальной политически мотивированной поддержки современного искусства эту ситуацию описал американский музыкальный критик Генри Плезантс в книге с характерным названием «Агония современной музыки» ([4]; см. илл. 2). Работая в должности советника американского посольства в Бонне, он имел возможность непосредственно наблюдать западногерманский музыкальный мир, а присутствие на концертах и фестивалях было прекрасным прикрытием для его основной деятельности — шпионажа в пользу ЦРУ. Плезантс предупреждал: активная поддержка государством полной свободы художников при одновременном игнорировании какого-либо отклика со стороны публики приведет к тому, что пути такого искусства и традиционных слушателей разойдутся, а через некоторое время иссякнут как интерес к нему, так и источники его финансирования. Художники станут свободными… и ненужными. Книга вызвала острую полемику, но, к сожалению, оказалась отчасти пророческой. То, что узкой группе лиц казалось революцией и будущим новой музыки, постепенно замкнулось в своей нише, если не сказать в гетто. Конечно, глядя на послевоенный авангард глазами историка, можно увидеть в этом явлении впечатляющее свидетельство силы творческого духа. Но, к сожалению, со времени создания первых произведений Штокхаузена, Булеза и еще нескольких корифеев того направления прошло уже почти семьдесят лет, а эти сочинения звучат лишь изредка и то только на специальных концертах. Фестивали и курсы новой музыки никуда не делись, но в репертуарах оркестров преобладают скорее Равель и Шостакович, а из более молодых — Пьяццолла, Гласс, Пярт и Адес. Сегодня чаще можно услышать музыку Вайнберга, чем Ноно.
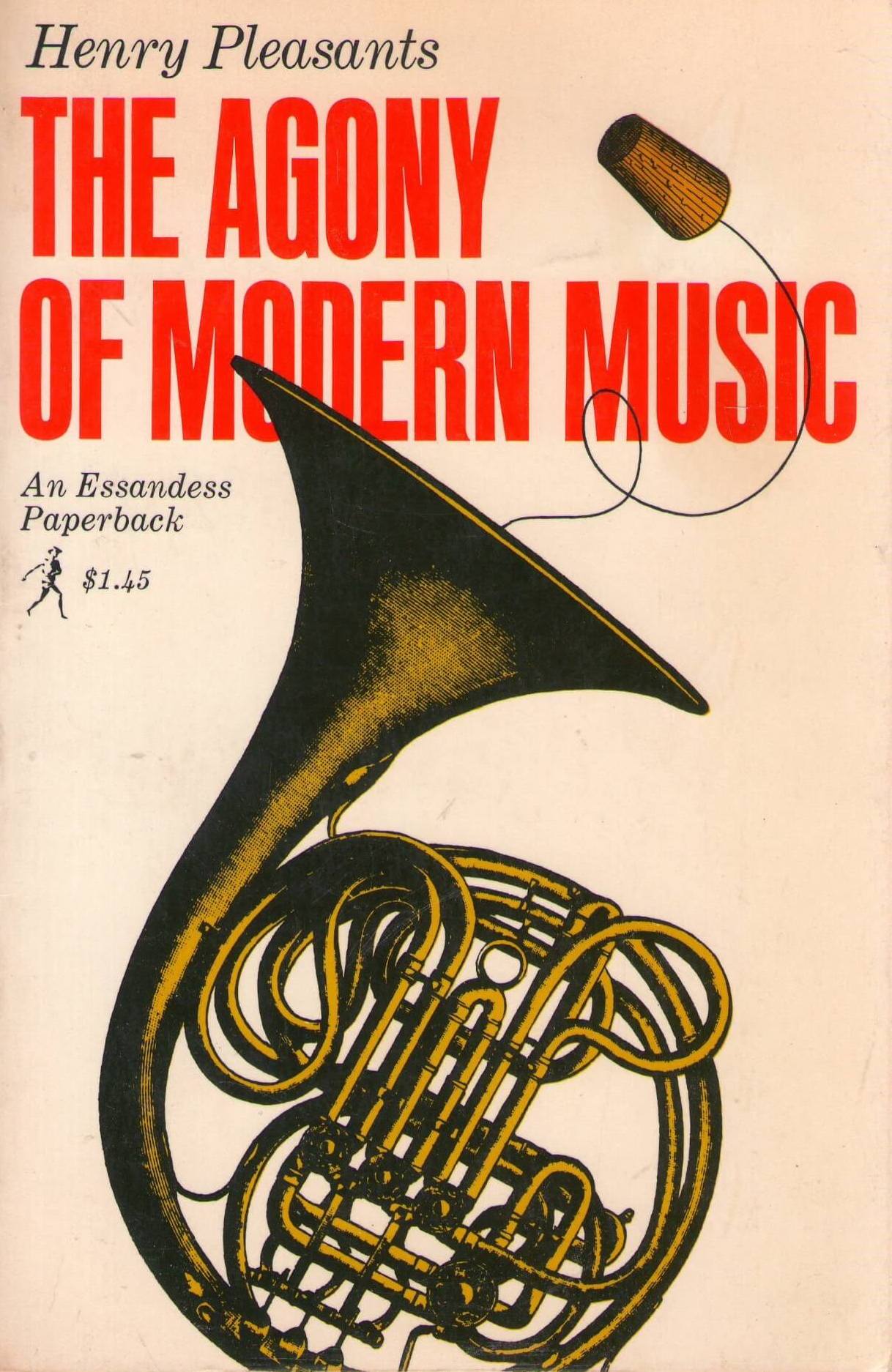
Илл. 2. Обложка книги Генри Плезантса «Агония современной музыки» [4]
Fig. 2. “The Agony of Modern Music” by Henry Pleasants, the front cover [4]
Илл.: designarchives.aiga.org
Разумеется, никто не знает, какими путями пошло бы развитие музыки, если бы в результате холодной войны для него не сложились определенные условия. Можно предположить, что естественный, кстати сказать, конфликт между фантазией художников и ожиданиями публики был бы менее выраженным, поскольку отсутствовала бы столь благоприятная для армии идеологов ситуация, оправдывавшая необходимость постоянных и масштабных революций в музыке. Специфика данного вида искусства заключается в эмоциональном воздействии, которое длится во времени. Поэтому любители музыки, почувствовав себя разочарованными или раздраженными, убегут из концертного зала быстрее, чем публика из галереи, причем убегут навсегда. Сложно ведь отрицать тот факт, что современная музыка по-прежнему действует как пугало на значительную часть публики, которая еще как-то смирилась с современными скульптурой и живописью. При этом небольшая группа слушателей — те, кто ожидают от новых музыкальных произведений прежде всего оригинальности, — неспособна финансировать существование творчества, нацеленного на неустанный эксперимент и новаторство.

Илл. 3. Кшиштоф Мейер
Fig. 3. Krzysztof Meyer
Фото: deutschlandfunk.de
Зная кулисы холодной войны, мы видим, насколько большое влияние на судьбы новой музыки имели в то время политики, причем политики, находившиеся по обе стороны железного занавеса. Впрочем, в истории европейской культуры это явление отнюдь не уникальное. И сегодня государство позволяет композиторам зарабатывать своим творчеством, если они умеют согласовывать свои идеи с приоритетами той группы лиц, которые принимают решения о распределении заказов или о выделении так называемых грантов. Таким образом, мы возвращаемся к исходной точке нашего рассуждения, то есть к утверждению, что искусство, которое неспособно существовать самостоятельно, требует поддержки частного мецената или государства. А чем будут руководствоваться они? Если качество музыкальных произведений и уровень мастерства композитора в состоянии оценить относительно узкая группа знатоков, то доступ к средствам, позволяющим произведению состояться (а его автору заработать на жизнь), зависит обычно от других критериев. Если государство отдает приоритет свободной и неповторимой личности, — автору предоставляется поле для экспериментов и нестандартных творческих поисков. Однако если власть декларирует, что наивысшим благом для нее является «народ», — тогда от художника ожидается сотрудничество с пропагандой.
Перевод с польского Алексея Давтяна
Список источников
- Boulez P. “Sprengt die Opernhäuser in die Luft!” Spiegel-Gespräch mit dem französischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez // Der Spiegel. 1967. Nr. 40 (24.09.1967). S. 166–171. URL: http://spiegel.de/kultur/sprengt-die-opernhaeuser-in-die-luft-a-ac664ef2-0002-0001-0000-000046353389 (дата обращения: 11.04.2022).
- Busoni F. Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. Leipzig : Insel-Bücherei, 1917. 48 S.
- Kydryński L. Magazyn muzyczny // Ruch Muzyczny. 1960. №. 3. S. 12–13.
- Pleasants H. The Agony of Modern Music. New York : Simon and Schuster, 1954. IX, 180 p.
- Schoenberg A. New Music, Outmoded Music, Style and Idea // Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg / ed. by L. Stein. Berkeley : University of California Press, 1975. P. 113–124.




Комментировать