«Нам целый мир чужбина…»
«Нам целый мир чужбина…»
Рецензия на книгу: Мориц К. На орбите Стравинского. Русский Париж и его рецепция модернизма / Клара Мориц [пер. с англ. Н. Бугаец]. СПб. : Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. 439 с. (Серия «Современная западная русистика» — «Contemporary Western Rusistika»).
Книга Клары Мориц — редкая птица, долетевшая до отечественного музыковедческого пространства. Труды иноязычных коллег, не только новые, но и давно обретшие классический вес, в русских переводах единичны. Временами появляющиеся публикации большей частью принадлежат к роду популярной литературы общегуманитарного профиля: культурология, мемуары, биографии, документальная проза разной степени художественности. На этом фоне исследование Мориц, оснащенное описаниями музыки и нотными примерами, безусловно относится к жанру специальному. При этом и проблематика книги, и ее стиль способны привлечь широкого читателя, в том числе не владеющего нотной грамотой.
Исследование Мориц повествует о русской музыке за рубежом. На родине ее герои не то чтобы совсем не известны, но и не относятся к числу близких знакомцев. По крайней мере, таковы трое из них: Владимир Дукельский, Николай (Николас) Набоков и Артур Лурье. Есть и знаменитости — Игорь Стравинский, главное светило книги, и Сергей Прокофьев, зачисленный Мориц в компанию его сателлитов. Последнее вызывает вопросы, и к этой теме мы еще вернемся.
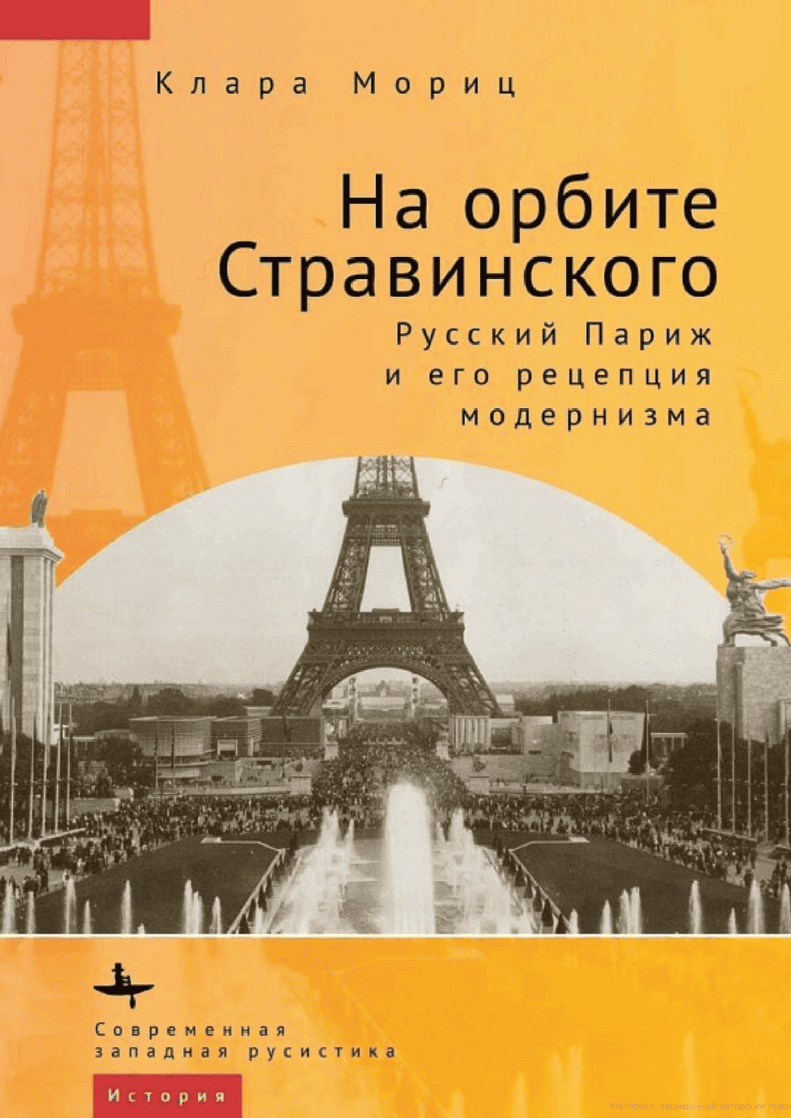
Илл. 1. Обложка книги Клары Мориц (русское издание)
Fig. 1. Cover of the book by Klára Móricz (Russian edition)
Фото: bibliorossicapress.com
Но сначала об очевидных достоинствах исследования. Прежде всего, книгу Мориц интересно читать. Она густо населена персонами и событиями, в ней много документов, извлечений из архивов и прессы давних времен, цитат из новейших трудов. Научной оснащенности сопутствует счастливое умение автора по-писательски распорядиться доступными богатствами — тем более что биографии героев, по которым вовсю прокатились катастрофы ХХ века, предоставляют благодарный материал. Бесспорно удачна уже самая первая глава — повествование о Владимире Дукельском, прошедшем путь от создателя успешного дягилевского балета «Зефир и Флора» до автора славных бродвейских шлягеров, подписанных именем Вернон Дюк. Увлекательно рассказывает Мориц и о других композиторах, и о некоторых представителях критического цеха. Здесь рядом с более известным нам Леонидом Сабанеевым присутствуют Артур Лурье, не только композитор, но и критик, и, что особенно ценно, Борис Шлёцер, чьи франкоязычные публикации практически не известны российскому читателю.
Но «материальная» составляющая книги не самоцель. Исследование Мориц подчинено весомой культурно-исторической идее: нарисовать картину деятельности «русских парижан» под углом зрения того, что их объединяло. А объединяла их прежде всего эмигрантская судьба, травма насильственного расставания с родиной. Как пишет Мориц во Введении к книге, ее главная тема — «реакция эмигрантов на потрясение, вызванное революцией и последующим изгнанием» [2, 23]. Казалось бы, подобное заявление новизной не блещет и не нуждается в специальной аргументации. Однако Мориц идет дальше: ее интересуют «продуктивные» варианты выхода из травматической коллизии. Их она ассоциирует с фигурой Стравинского, центра притяжения на парижском эмигрантском небосклоне. Именно ему, превратившемуся из новатора-ниспровергателя в консерватора-неоклассика, удалось найти выход из «конфликта между нарративами модернизма, который предполагает постоянные новации, и изгнания, который считает своей миссией сохранение культуры прошлого» [2, 22]. Ту же проблему так или иначе вынуждены были решать и четверо «спутников»: каждый из них представлен в книге отдельной главой и, соответственно, крупным опусом, воплотившим его индивидуальный выбор.

Илл. 2. Клара Мориц
Fig. 2. Klára Móricz
Фото: amherst.edu
Для Сергея Прокофьева, по мнению Мориц, таким сочинением оказался балет «Стальной скок». Во второй главе книги, озаглавленной «Советская „механика“, или Соблазны большевизма» изложена история создания «красного» спектакля дягилевской антрепризы — в основном по дневнику композитора. Броские подзаголовки артикулируют путь от замысла к воплощению: «Снова в строю» (Прокофьев в дягилевской антрепризе), «Пусть будет розовым» («политика»), «Красный балет на белых клавишах» (диатоника) и, наконец, «Браконьерство забавы ради» (о прокофьевских пародиях и намеках на грани покраж у Стравинского). Дальше следует реконструкция спектакля с подробностями сценических вариантов и описанием их рецепции, отдельно рассказана известная история обструкции балета в Советской России, где по сию пору он так и не увидел сцены.
Само собой, Прокофьев никак не вписывается в образ сателлита Стравинского, да и чьего бы то ни было еще — он по праву претендует на статус самостоятельного светила. У Мориц он помещен в «орбиту» с понятными ограничениями. Фактически речь идет о коллизии соперничества, в основе которого лежит вышеупомянутый «нарратив модернизма»: ему Прокофьев по-прежнему верен, отвергая «ретроспективизм» Стравинского. По мнению Мориц, именно стремление к новизне и увлекает Прокофьева в «Стальном скоке» в ловушку «большевизма», следствием чего становится трагическая ошибка переселения в СССР.
Еще один ракурс повествования образуют пересечения музыки «Стального скока» с «Весной священной». Здесь Мориц развивает наблюдения Ричарда Тарускина, отмечая, что «даже в наши дни неопримитивная „Весна священная“ Стравинского бросает тень на варварский „Стальной скок“ Прокофьева» [2 140]. Указанные ею музыкальные примеры любопытны: например, тяжеловесные аккордовые гроздья или диатоника начальных одноголосных тем в обоих сочинениях. Другие аналогии более подозрительны, вроде гаммообразных ходов и альбертиевых фигур. Они истолкованы как пародия на неоклассическое письмо Стравинского — притом что в музыке Прокофьева подобные фактурные рисунки встречаются с ранних лет и, в частности, весьма типичны для его фортепианного письма. И никакого внимания, к сожалению, не уделено тому очевидному обстоятельству, что в творчестве Прокофьева имелись собственные истоки неопримитивизма в виде различной «нагнетательной» (остинатной) музыки. Примеры общеизвестны: «Скифская сюита» и кантата («халдейское заклинание») «Семеро их» на слова Константина Бальмонта. Что касается пародии, да еще и портретной («Не исключено, что за образом „оратора“ из 5-й части также скрывается Стравинский» [2, 144]), то ее приметы явно преувеличены. Так, типичная для Прокофьева невинная гармоническая последовательность в чистом до мажоре (см. [2, 146], пример 2.9) 1 характеризуется как «пародия на каданс». Но в целом мысль о следах «Весны священной», демонстрируемых Мориц в «Стальном скоке», воспринимается свежо и приятно разнообразит аналитические штудии.
Однако общий вывод главы удивителен, и его стоит привести полностью. «Когда в 1925 году Прокофьев задумал балет, на музыкальной сцене Парижа все еще доминировал многогранный Стравинский, олицетворявший старую Россию. Единственным противоядием, каким бы горьким и неприятным оно ни было, похоже, был большевизм — территория, полностью свободная от влияния Стравинского. Для Прокофьева притягательная сила большевистского соблазна, помимо экзотики большевизма, состояла еще и в возможности закрепиться в стране, отринувшей авторитет Стравинского» [2, 147]. Если бы речь шла только о балете «Стальной скок», задуманном Дягилевым как «условно советский», то подобное умозаключение как-то можно было бы принять, хотя и со скрипом. Но Советская Россия второй половины 1920-х годов, точнее, ее музыкально-общественная ипостась, вовсе не собиралась отвергать авторитет Стравинского. Напротив, это было время триумфа композитора на родине, когда исполнялись и даже, наконец, ставились на сцене его сочинения, включая новейшие опусы. Что, разумеется, ничуть не препятствовало ошеломляющему успеху самого Прокофьева в той же «Большевизии». Иначе говоря, культурная сцена Советской России 1920-х годов была ярко окрашена в модернистские и авангардные тона. По-видимому, причина ошибки Мориц коренится в излишнем доверии к приведенному ранее безапелляционному мнению, что в Советской России «политические и эстетические инновации никогда не шли рука об руку» [2, 22] 2. Все было ровно наоборот, хотя и недолго. Опрометчивое заявление коллеги, кстати, не раз невольно опровергается и в самой книге Мориц.
Более того, сама постановка вопроса в терминах «или — или», то есть идти под ярмо Стравинского либо отдаться большевикам, — не выглядит адекватной по отношению к Прокофьеву и его творческой эволюции. Здесь не место рассуждать о самой проблеме возвращения Прокофьева, не поддающейся однозначному объяснению. Но вспомним хотя бы то, что после «Стального скока» композитор создал для Дягилева еще один балет — «Блудный сын», сам сюжет которого явно отсылал к «ретроспективизму» (неоклассицизму) Стравинского. Однако стилистически он был решен принципиально иначе. Прокофьевский «нарратив модернизма» гармонично соединился с библейской притчей, с ее легко читаемыми «эмигрантскими» подтекстами. Если угодно, Прокофьев дал бой Стравинскому на его же территории, причем обошелся без всякой пародии — бой серьезный, весомость которого подтвердил спектакль, пусть и не оцененный по достоинству автором музыки. «Блудный сын» стал классикой балетного жанра ХХ века ничуть не в меньшей степени, чем другой шедевр молодого Жоржа Баланчина — «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского.
Излишне говорить, что фигуры масштаба Прокофьева вообще плохо вписываются в любые теоретические построения. Другое дело — композиторы более скромного ранга, к которым мы и перейдем.
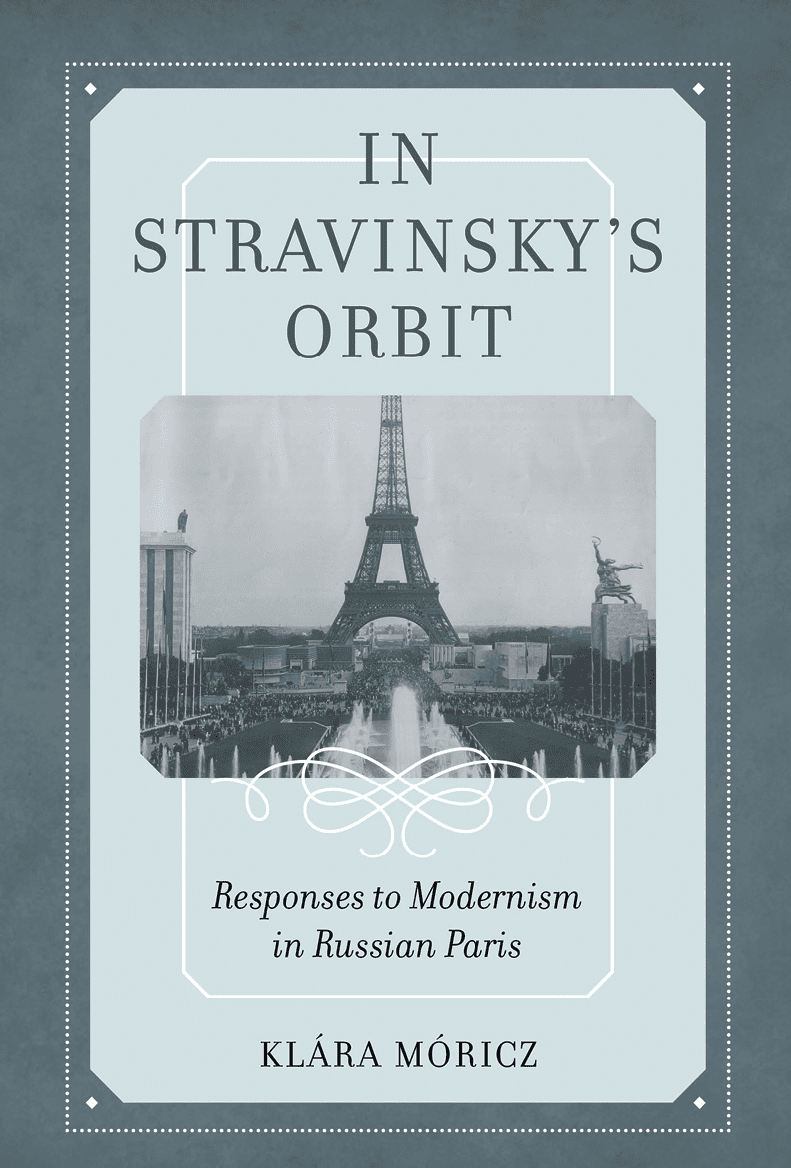
Илл. 3. Обложка книги Клары Мориц (оригинальное издание)
Fig. 3. Cover of the book by Klára Móricz (original edition)
Фото: ucpress.edu
Одному из них посвящена вышеупомянутая первая глава книги: «Двойные нарративы, или „Конец Санкт-Петербурга“ Дукельского». Дукельский, сателлит скорее Прокофьева, чем Стравинского, в своей вдохновленной фильмом Всеволода Пудовкина оратории во всей красе воплотил образ эмигрантской «петербургской» ностальгии, уходящей под натиском новой жизни, то есть попытался совместить эмигрантское изгнанничество с «большевизмом». Символом последнего стал триумфальный финал на слова Маяковского, дописанный Дукельским по совету Прокофьева. Отметим, что глава солидно оснащена документальными подробностями и естественно вписана в известную проблематику «петербургского текста». Здесь и образ северной столицы в фильме Пудовкина и в эмигрантской культурной памяти, и «Медный всадник» Пушкина в цикле иллюстраций Александра Бенуа, и коллизия «маленького человека» в поэме Пушкина и в советском фильме. Все это щедро проиллюстрировано кинокадрами и репродукциями, среди которых удачно затесалась карикатура в стиле будущего “Charlie Hebdo”, живописующая безжалостный баттл экспонатов Всемирной выставки в Париже 1937 года — нацистского орла и мухинских «Рабочего и колхозницы» («это они опять дискутируют», как гласит подпись).
Правда, перечисленные богатства не всегда спасают автора от умозаключений типа «Пушкин сострадает несчастному безумцу, но все же отдает победу демоническому всаднику, самодержавному царю, не желающему мириться с тем, что кто-то критикует его великое творение» [2, 95]. Но не это главное. Гораздо важнее печальная судьба самой оратории: исполненная при жизни Дукельского лишь однажды, к тому же не к месту и не ко времени — в Нью-Йорке в 1938-м, она «оставила у публики чувство недоумения» [2, 54] 3.
Николаю Набокову и его кантате «Ода» на слова М. Ломоносова повезло больше. Партитура была поставлена в парижской антрепризе Дягилева в виде балета-аллегории и не без успеха исполнялась также в Лондоне в сезоне 1928/1929 4.
Радикальное сценическое решение художника Павла Челищева, вошедшее в историю прежде всего благодаря новаторскому использованию света, описывается Мориц насколько возможно подробно, с иллюстрациями архивных редкостей: представлены сценические экспликации Челищева, фото костюма звезды из австралийского музея. Что касается музыки, то, судя по материалам рецензий, сочинение дебютанта встретило благосклонный прием. Поворот дягилевской антрепризы к «ретроспективному классицизму», обозначенный более ранней «Спящей красавицей», одобрительно характеризовался как «настоящая русская традиция» [2, 219]. В этом не было преувеличения: музыка Набокова, и на нынешний слух далеко не утратившая обаяния, легко воспринимается в жанровом русле лирического романса условной глинкинской эпохи, расцвеченного эмблематическими цитатами «Славы» и «Богатырских ворот». (Мориц склонна слышать в кантате также влияние Стравинского.) Некоторое сомнение вызывает титул главы «Неоклассицизм а-ля рус 1 [sic], или Возвращение восемнадцатого века в „Оде“ Набокова»: «нео» в кантате Набокова весьма проблематично. Поэтика сочинения опирается на прямое, «наивное» следование естественной для молодого автора традиции мирискуснической стилизации, с ее интересом к культуре XVIII века, усадебному ампиру и сентиментализму. Все, что пишет Мориц об аристократическом ретроспективизме «Мира искусства», о дягилевской выставке исторического портрета, об интересе к балету [2, 186 и далее], хоть и не ново, но справедливо. Мирискуснические корни совершенно очевидны в кантате Набокова: ее автору не было нужды в дистанцировании от традиции, которое предполагает любая «нео»-эстетика. Следы «эмигрантской травмы» в «Оде» дискуссионны, и можно даже предположить, что и без нее, в более благополучных условиях начинающий композитор Набоков вполне мог сочинить подобный опус 5. Однако именно эмигрантский «неоклассицизм» Набокова становится у Мориц фоном для варианта Стравинского: «Сила неоклассицизма Стравинского состояла в его способности обращаться не к существующему, а к воображаемому прошлому, не имеющему отношения ни к конкретному периоду времени, ни к конкретной стране, а потому свободному от малоприятного запаха эмигрантской ностальгии» [2, 220].
Этот приятно пахнущий неоклассицизм анализируется в следующей главе, название которой «зарифмовано» с предыдущей: «Неоклассицизм а-ля рус 2, или Similia similibus curantur по Стравинскому» 6. Она посвящена балету «Аполлон Мусагет» и его автору — центру притяжения остальных героев книги.
Балет представлен здесь как «ритуальное очищение», как предложенное русским эмигрантам «лекарство не только против ностальгии, но и против потенциального большевистского соблазна». Второй дальше не упоминается, зато приводится мнение Бориса Шлёцера насчет неоклассицизма Стравинского, который «всё еще сохранял прочные корни в русской культуре» [2, 222]. Как мы знаем, Шлёцер оказался прав, и происхождение творения Стравинского — Баланчина от российского императорского балета и Серенады для струнного оркестра Чайковского давно уже стало общепризнанным фактом. Но Мориц предлагает свой ракурс: изучение «Аполлона» «в контексте изгнания», взгляд на балет как на «специфически изгнанническое эстетическое пространство, в равной степени свободное и от бремени прошлого, и от страха перед будущим» [2, 222].
Как и в других главах, описание «Аполлона Мусагета» погружено в разнообразный историко-культурный контекст — от истории создания и рецепции до трактовки термина «неоклассицизм» критикой того времени. Обсуждаются аполлоническое и дионисийское, эволюция дягилевского балета, соседство «Аполлона» и «Стального скока» в афише. Есть и аналитические эпизоды: самый пространный относится к финальному «Апофеозу», где приведена его полная партитура. Но описания музыки вызывают недоумение. «Импульсы, такие как нисходящее движение, могут легко стать неуправляемыми и независимыми, как, например, во 2-м такте перед цифрой 13, где арпеджированное трезвучие фа-диез минор приходится на семь долей, за которым следуют пятидольные нисходящие фигуры у виолончелей, что вызывает метрическое смещение, которое еще больше подчеркивается сильными синкопическими акцентами у скрипок и альтов. Все это и есть излюбленные неоклассические приемы Стравинского» [2, 230–231]. Школьные перечисления вдобавок не везде точны (например, в начале Апофеоза нет реального E-dur — только большая терция наверху, а вообще там cis-moll [2, 258]; дальше cis невнятно назван вводным тоном как будто h-moll и так далее). К тому же некоторые подписи к фрагментарным нотным примерам, указующие читателю, чтó там надо видеть-слышать, производят комическое впечатление, и это относится не только к «Аполлону» 7.
Вопрос о цели подобных описаний повисает в воздухе: техника Стравинского имеет солидную традицию профессионального музыковедческого анализа — и почему бы не воспользоваться его плодами? Пренебрежение этим пунктом приводит автора к констатации банальностей: «Музыка Стравинского не вписывается в рамки традиционных аналитических определений. Он пишет диатоническую, тональную музыку, в которой использует все двенадцать тонов, заменяет трезвучия терциями или открытыми [чистыми? — С. С.] квинтами и избегает четко выраженного тонального центра» [2, 259].
Но финальные строки главы ясны и трогательны: «Когда в 1937 году эмигранты отмечали 100-летие со дня смерти Пушкина и представили миру свою версию творчества поэта золотого века русской культуры, неудивительно, что их Пушкин обладал поразительным сходством с лучезарным Аполлоном Стравинского» [2, 266]. Это мост к пятой главе «1937, или Разделенный Пушкин». В общем повествовании она с успехом выполняет функцию интермеццо.
Стравинского в ней совсем немного, зато предостаточно разных сведений и деталей, касающихся пушкинских торжеств на родине поэта и за ее пределами, в русском зарубежье.
Последние для российского читателя особенно интересны. Таково, например, подробное описание богатейшей пушкинской выставки Сержа Лифаря, выступившего в роли коллекционера и издателя, на которой удалось воскресить образ Пушкина в подробностях его реального существования, «вернув в контекст своего времени» [2, 285]. Более знакомую нам специфику советского «присвоения» наследия Пушкина отражал девиз противоположной по смыслу выставки, открытой в московском Историческом музее: «<…> показать жизнь великого поэта, его борьбу с самодержавием и гибель в этой борьбе» [2, 286]. Менее известны попытки советской стороны экспроприировать Пушкина также и во Франции, оттеснив эмигрантские круги на периферию торжеств, дабы «разделить с французской публикой единодушный энтузиазм советского народа в праздновании юбилея великого поэта» [2, 292]. Приятным противоядием к подобным воззваниям служит щедрое цитирование мнений о Пушкине князя Д. П. Святополка-Мирского, чью «Историю русской литературы» (1926) Вл. Набоков недаром считал лучшей книгой на данную тему.
Но к концу пятой главы сгущается «сумрак 1930-х годов, в котором эмигрантскому Пушкину уже не было места. Нужен был новый Пушкин, новый кумир, который смог бы вместить как разрушение и безумие Диониса, так и надежду на ясность, даруемую Аполлоном» [2, 304]. Так, не без торжественности, на сцене является последний герой книги — Артур Лурье и его опера-балет «Пир во время чумы» на собственное либретто по одной из «Маленьких трагедий» Пушкина (1933). Это шестая глава книги 8.
Звание сателлита Стравинского подходит ему, как никому другому.
Около полутора десятка лет, с начала 1920-х до середины 1930-х годов, обоих связывали дружеские и деловые отношения и активный духовный взаимообмен. Его неоспоримым свидетельством остались письма Лурье Стравинскому (ответные не сохранились) и в особенности статьи Лурье — они принадлежат к лучшему, что было сказано о музыке Стравинского в те времена. Но книгу о старшем коллеге он так и не написал.
Лурье, «самая неоднозначная личность из всех главных героев этой книги» [2, 307], впервые появляется во Введении, где его судьба вписана в общую парадигму разрыва между упоминавшимися выше «модернистскими принципами, которые требовали постоянных инноваций, и националистической установкой на сохранение неких „исконных“ традиций» [2, 41]. В шестой главе этот тезис раскрывается в сопоставлении с эволюцией Стравинского, который, как мы уже знаем из главы об «Аполлоне Мусагете», нашел образцовый выход из травматической ситуации. Лурье, сателлиту, хотя и достигшему известного успеха, это не удалось, невзирая на поддержку Кусевицкого (оплаченную литературной работой) и того же Стравинского, который был посвящен в творческие проблемы друга и одно время старался продвинуть его сочинения — как бы ни отрицал позднее сам факт знакомства с ними.
Лурье же остался со своим славным петербургским прошлым, в котором он был автором футуристских манифестов и парящих в пространстве «Форм в воздухе», другом Блока и Мандельштама, «возлюбленным акмеистки Ахматовой» [2, 314], непременным участником собраний «Бродячей собаки», — обо всем этом он будет вспоминать на склоне лет в Принстоне, где уже никто не знал, кто он такой. О его судьбе Мориц пишет точно и убедительно, разве что стоило бы подчеркнуть, что композитор Лурье расстался с модернизмом еще на родине и приехал в Европу консерватором-эклектиком. В сущности, эклектизм составлял сердцевину его натуры: «<…> стараньям Лурье совместить несовместимое, похоже, не существовало предела» [2, 314]. Так получилось и с оперой-балетом «Пир во время чумы», «перегруженным в культурном отношении творением Лурье», которое «не вписывалось ни в одно определенное направление» [2, 327].
«Пир во время чумы», конгломерат балета, мелодрамы, оперы и оратории, где, кроме русской поэзии, звучат латинские гимны и стихи Петрарки, действительно производит впечатление тяжеловесной конструкции. Мориц успешно разбирает ее на составные элементы культурологии, пушкиноведения, философии, демонстрируя богатую гуманитарную почву опуса, который в целом отвечает не только эмигрантскому опыту композитора, но и общей картине жанровых экспериментов музыкального театра. Что до музыки, то скудное количество нотных примеров, несмотря на подробные словесные описания, обеспечивает лишь самые общие впечатления. «Песня Мери» приятно окрашена в русские романсовые тона и расцвечена мелодическими контрапунктами; «Гимн чуме», порученный полифоническому хору и басовому соло в мужественном романтическом духе, не производит впечатления композиторской находки, достойной знаменитого поэтического текста.
Однако общий смысл творения Лурье Мориц описывает в конце главы с подлинным увлечением. Непременная ностальгия чудесным образом превращается в творческую силу, свободную от бесплодного ретроспективизма, обращенного лишь в прошлое. И Стравинский тут почти забыт — по контрасту упомянута только «Персефона», с которой, как справедливо отмечено, у «Пира во время чумы» нет ничего общего [2, 358].
Заключительная, седьмая глава книги — «Эпилог, или От Жар-птицы к птице Феникс» — лаконична. Она полностью посвящена Стравинскому как центру представленного в книге эмигрантского сообщества. С перемещением в США оно перестало быть таковым.
Первая часть Эпилога в основном событийна. Стилистическую перемену, произошедшую в поздние годы творчества Стравинского, Мориц описывает как «отступничество» и «окончательный разрыв его связей с общиной» [2, 48]. Дополнительную остроту добавляют беседы с Крафтом, в которых главный антагонист Стравинского Вернон Дюк (Владимир Дукельский) увидел «предательство композитором его русских соотечественников» [2, 369] 9. По мнению Мориц, «Стравинский, похоже, сжег дотла свое русское прошлое, а вместе с ним и парижские русские годы, и память о соратниках по музыке» [2, 361]. Вопрос, в какой степени сателлиты могут считаться соратниками, Мориц не затрагивает, и мы последуем ее примеру. Другой аспект «предательства» связан с «двенадцатитоновой музыкой», которую Дукельский также обсуждает в своей статье, называя «псевдоклассицизмом». К тому же с переходом в «додекафонную веру» Стравинский окончательно утратил национальную основу творчества, которая еще сохранялась в неоклассический период (см. выше мнение Шлёцера). Заметим, что такой Стравинский оказывается не птицей феникс, заявленной в названии Эпилога, а скорее ящерицей хамелеоном, чей образ долго сопутствовал композитору, в том числе и в советской прессе. Автор не считает нужным хотя бы упомянуть, что и в поздних серийных («додекафонных») сочинениях Стравинский остался Стравинским, сохранив свою стилистическую сущность, причем даже в большей степени, чем, скажем, в поздних неоклассических опусах 1940-х годов.
Однако Мориц справедливо замечает, что «публичное осуждение Стравинского со стороны Дюка нанесло удар скорее по репутации второго, чем первого» [2, 369], и что «его ведущее положение в русской музыке оставалось неизменным» [2, 378]. И не только русской: во второй, заключительной части Эпилога предметом внимания Мориц становится ключевая проблема творчества Стравинского, обозначенная как «Укрощение хроноса». Здесь сказаны в основном известные и верные вещи относительно хода времени в музыке Стравинского, восходящие к «Музыкальной поэтике» и терминам П. Сувчинского («хронометрическая музыка» и «динамический покой»). Упомянуты и малознакомые русскому читателю сведения, отсылающие, например, к фундаментальному труду Жизель Бреле [3].
И, наконец, финал: «<…> у Стравинского не было ничего, что он мог бы предложить своим соотечественникам, кроме атопии — места, которого не существует, или, выражаясь более позитивно, некого дрейфующего пристанища, которое не имеет ни постоянных границ, ни национальности, ни устойчивой идентичности» [2, 388]. «То, что у других эмигрантов вызывало эмоциональную опустошенность, связанную с культурным вакуумом, для Стравинского служило творческим стимулом» [2, 390].
Жесткая категоричность «апофатического» вывода плохо согласуется с пестротой и многозначностью реальных подробностей творческих и жизненных коллизий, составляющих главную ценность книги Клары Мориц. Пусть не всегда точно описанные и сформулированные, они не вмещаются в прокрустово ложе провозглашенных автором идей весьма умозрительного характера.
И вообще, стала ли пристанищем Стравинского несуществующая местность без цвета и запаха, без корней и воспоминаний? Или все же, как считал Милан Кундера 10, силой гения он создал то единственное отечество, которое нельзя отнять и утратить?
...Нас мало избранных, счастливцев праздных, единого прекрасного жрецов...
Postscriptum
В выходных данных русской публикации отсутствует упоминание научного редактора, и чтение книги не оставляет сомнения в том, что его там и не было. Ибо, к великому сожалению, в русском тексте книги Клары Мориц встречается довольно много неточностей, переводческих погрешностей и ошибок различного калибра. Приведем некоторые примеры из образовавшейся рецензентской коллекции.
С. 270. «Коммунизм, поначалу воспринимаемый многими как утопическая утопия <…>».
С. 308. «<…> исполнил две симфонии Стравинского: “Sinfonia dialectica” („Диалектическую симфонию“) в 1933 году и „Кормчую“ в 1941 году». Оба сочинения принадлежат А. Лурье.
С. 315–316. «Нельзя сказать, что ко времени своего появления в столице Франции Лурье был совсем неизвестен парижской публике. К 1921 году его фортепианная музыка уже звучала в Париже в исполнении Кароля Шимановского, Альфредо Казеллы, Белы Бартока, Дариуса Мийо и Арнольда Шёнберга». Речь идет, разумеется, о соседстве сочинений Лурье в концертах с музыкой упомянутых композиторов, а не о том, что они их исполняли.
С. 297. «Петербуржская штучка» [заглавие раздела]. В цитируемых мемуарах «Петербургская»: разговорная форма с ж вошла в употребление сравнительно недавно и в этом месте режет слух.
Далее приводим неточности в именах, включая русские транскрипции:
«Бом» — это Адольф Больм;
«Геузи Пьер-Бартелеми» (Gheusi Pierre-Barthelemy) — Гези;
«Джордж Андре» (George Andre) — Жорж Андре;
«Аминад Шролянский», известный как Дон-Аминадо — Аминад Петрович Шполянский;
«пианист Р. Оцуп» — дама;
«Пруньер» — Анри Прюньер (в Именном указателе отсутствует);
«Чарльз Мунк» — Шарль Мюнш;
«Ира Беллин» — Ira Beline, Ира Белина (Ирина Григорьевна Белянкина). Ее «роль Натуры» по-русски называется ролью Природы.
Музыкальные термины (тут совсем беда):
«vocal score» — по-русски «клавир» (переложение для пения с фортепиано), в книге переведено как «вокальная партитура»;
название ноты B переведено как си-бемоль, в то время как в англоязычной традиции это си;
«рerformance» переводится как «постановка» и «спектакль», хотя речь идет о концертах, и правильным вариантом будет «исполнение»;
«intonation» здесь означает не «интонация», а интонирование;
«рarts» — в данном случае не «части», а партии, или голоса;
«<…> меняет тональность с трех бемолей на два диеза» — имеются в виду не тональности, а ключевые знаки;
«басовые прогрессии» следует перевести «последовательности»;
«скалярные фигуры» надо перевести «гаммообразные» (scale);
«поют с замкнутыми ртами» — с закрытыми ртами.
В некоторых случаях не удалось догадаться, о чем идет речь в оригинале:
с. 51 — «в насыщенных унисонных тесситурах»,
с. 233 — «мелодия скрипки соло с разделенным регистром»,
с. 133 — «песня на четырех нотных линейках»,
с. 260 — «перегруженные анапесты».
Хор «Школа Канторум» — «Схола канторум».
«Pas d’action» в указателе переведено как «бездействие» (франц.). В тексте, слава богу, дано без перевода.
Наконец, «nationalistic» в контексте книги — «национальный», а не «националистический» (к сожалению, это частая
ошибка).
Список источников
- Кундера М. Нарушенные завещания. URL: https://google.com/books/edition/Нарушенные_завещания_Девять_эссе/Ql2cEAAAQBAJ?kptab=editions&gbpv=1 (дата обращения: 03.06.2025)
- Мориц К. На орбите Стравинского. Русский Париж и его рецепция модернизма / [пер. с англ. Н. Бугаец]. СПб. : Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. 439 с.
- Brelet G. Le temps musical: Essai d’une esthétique nouvelle de la musique. In 2 vols. Paris : Presses Universitaires de France, 1949. 842 p.
- Duke V. The Deification of Stravinsky // Listen: A Music Monthly. 1964. Vol. 4. May — June. P. 1–5.
- Funeral Games in Honor of Arthur Vincent Lourié / еd. by K. Móricz and S. Morrison. Oxford University Press, 2014. ix, 303 p.
- Livak L. In Search of Russian Modernism. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2018. 392 p.
- Stravinsky I. Stravinsky Proposes: A Cure for V. D. // Listen: A Music Monthly. 1964. № 5. September — October. P. 1–2.
- Walsh St. Stravinsky, The Second Exile: France and America 1934–1971. New York : Alfred A. Knopf, 2006. 720 p.




Комментировать