Уильям Кристи: «Абсолютный слух — навык, который полезен для периода музыки длиной в 50–75 лет»
Уильям Кристи: «Абсолютный слух — навык, который полезен для периода музыки длиной в 50–75 лет»
Американо-французский маэстро, специализирующийся на исполнении старинной музыки, рассказал Ярославу Тимофееву о разнице между дирижером и полицейским, о патриотизме и эмиграции, а также о том, как он стал цветком 1.
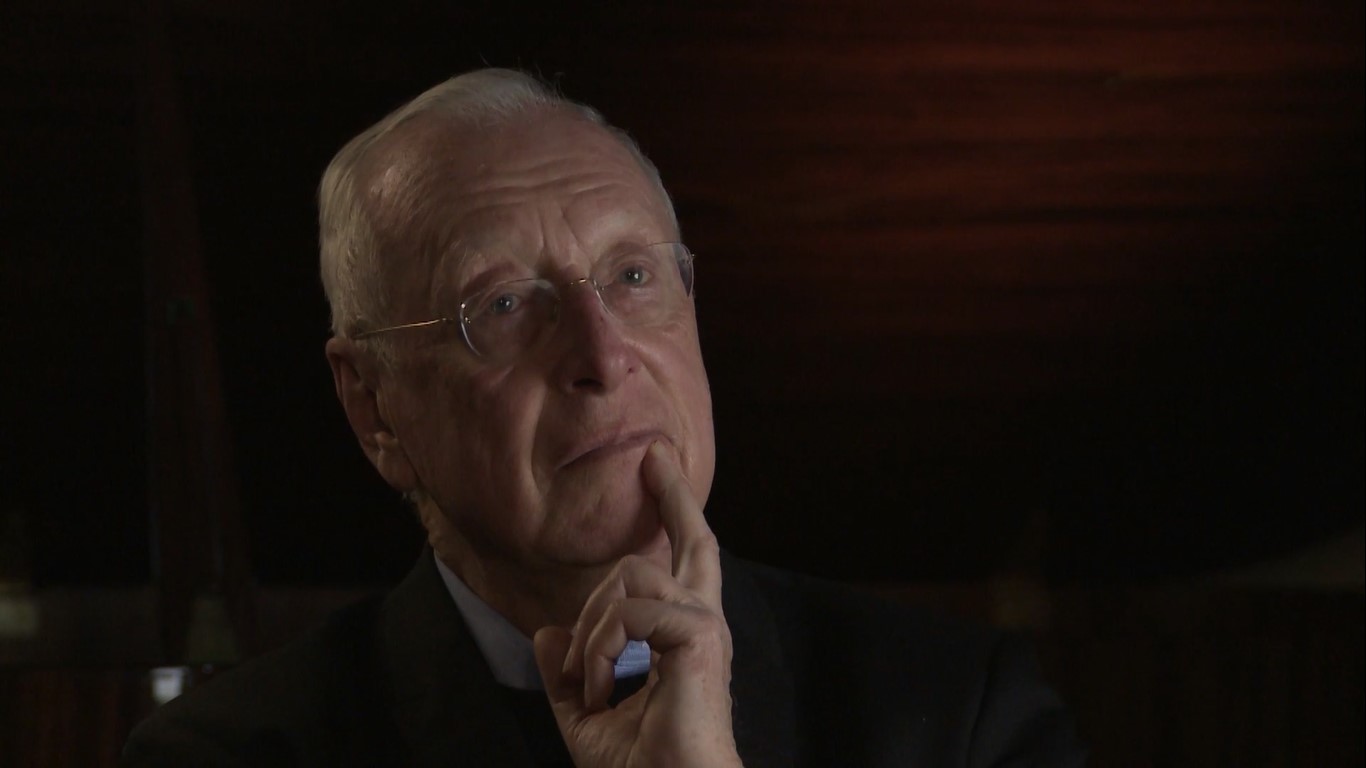
— На афише сегодняшнего концерта вы изображены с розой в руке. Подозреваю, что это тот самый сорт розы, который называется «Уильям Кристи».
— Я не вглядывался так пристально, но роза «Уильям Кристи» действительно существует.
— Расскажите, кто сделал вам такой подарок.
— Поклонница из Швейцарии, милая женщина, которой больше нет с нами. Ее звали Сильви Минкофф. Сильви была редактором и основателем издательства Minkoff, которое было исключительно важным для нас, людей, занимающихся старинной музыкой, поскольку оно публиковало в Женеве факсимильные издания старинных произведений. В один прекрасный день я проснулся, подошел к своему почтовому ящику, забрал почту и обнаружил там письмо от Сильви, в котором она писала: «Теперь я могу раскрыть тебе тайну: около полутора лет назад я встретила садовода, занимающегося разведением роз, и он работает над сортом, который будет называться “Уильям Кристи”». Это было очень мило с ее стороны.
— Есть ли какая-то связь между этим сортом и чертами вашей личности?
— Не думаю. Разве что такая: многие считают черты моей личности очаровательными, и роза эта тоже очаровательна.
— Названия ваших ансамблей связаны с дендрологией, с растениями. Почему?
— Думаю, это просто признание моей второй страсти — сада и ухода за ним. Но также — скажу без ложной скромности — это связано и с рождением музыки. Можно давать новую жизнь музыке, а можно давать жизнь растениям. В конце концов, если ты выращиваешь растения, ты веришь в жизнь, ведь ты даришь жизнь семени или рассаде. Очень часто я думал о том, что наблюдаю подобные вещи в музыке.
— Вы предпочитаете английский сад или французский?
— Это зависит от того, с какой ноги я встану, о чем буду думать, от множества вещей. Часто люди заявляют мне: «У вас должен быть любимый композитор!» Я говорю: «Да, он есть. Но в четверг это может быть Монтеверди, а в воскресенье — Бах». Одна из потрясающих особенностей жизни в XX и XXI веках заключается в том, что у нас есть все эти композиторы, которые жили с XVI до самого XX столетия и зачастую не слышали друг о друге.
— Вы учились и в Гарварде, и в Йеле. Как так вышло?
— На самом деле я не могу ответить на этот вопрос.
— Серьезно?
— Моя семья верила в пользу образования. Мне и самому нравилось учиться. Перед тем как отправиться в Гарвардский колледж, я думал, что стану врачом. Поэтому — а мне тогда было всего лишь 16 — у меня был вариант пойти на подготовительные медицинские курсы в Бостонском университете. Но в итоге я сказал «нет». Я подал заявление в Гарвард, где проучился четыре года. Как говорил мой отец, он потратил кучу денег на то, чтобы я понял, чем не хочу заниматься. Я переключался с одного предмета на другой: сначала хотел изучать историю науки; затем заняться биохимией, но не сложилось; потом история, литература… Если честно — да, я провел четыре года, просто пробуя разные вещи и обнаруживая, что не хочу ими заниматься. И к концу третьего года в Гарварде я сказал себе, посмотрев однажды утром в зеркало: «Единственное, чем ты действительно любишь заниматься в своей жизни, — это музыка. И пусть раньше ты не хотел быть профессионалом, теперь это твоя обязанность». То было очень сильное чувство: если я хочу быть счастливым, если я хочу сделать свою жизнь интересной, я просто должен стать музыкантом, потому что желание слишком сильно, чтобы его игнорировать. Мне очень повезло. Я хорошо владел фортепиано, так что спокойно смог пройти вступительные испытания в Йель, где в тот момент преподавал замечательный педагог по клавесину Ральф Киркпатрик. И я учился у него три года.
— Он был специалистом по Скарлатти?
— Да.
— Вы эмигрировали в 1971 году. Почему вы выбрали…
— На самом деле я эмигрировал в 1970-м, на год раньше.
— Хорошо, извините.
— Это ошибочная информация, не знаю, как она распространилась. Я преподавал музыковедение в Дартмутском колледже в Нью-Хэмпшире. Решение уехать я принял во многом из-за Вьетнамской войны. В 1968–1969 годах я очень часто бывал на антивоенных митингах в Вашингтоне, и не только. Кампусы американских университетов в те годы были политически очень активны и выступали против войны. Это было потрясающее время. Шестидесятые годы в Штатах: в 1963-м убили Кеннеди, движение за гражданские права было безумно важным тогда, и после этого — всеобщее разочарование в президенте, в Вашингтоне, в выборных должностных лицах в связи с войной во Вьетнаме. Это убедило меня в том, что я могу быть счастлив где-то в другом месте. Кроме того, меня могли призвать в армию. В 1968 году в Форт-Беннинге, в Джорджии, я проходил базовое военное обучение. Я делал успехи, но ненавидел все это. Но только так я мог продолжать работать в школе, в университете. А затем, в 1970 году, мой контракт с Дартмутским колледжем подошел к концу, и меня должны были забрать на воинскую службу. И в этот момент я сказал: «С меня хватит, я уезжаю в Европу. Я знаю, что там я буду счастливей». На тот момент я уже был сильно погружен в европейскую культуру. Мои родители очень много путешествовали, и почти каждый год, а иногда и дважды в год, ездили в Европу. Я приехал летом 1970-го и с тех пор ни минуты не жалел об этом решении.
— Почему вы выбрали Францию?
— Ну, я и в других местах пробовал жить. Пожалуй, по родовым и семейным соображениям я должен был бы жить в Англии, но мне не очень нравился климат. Мои языковые познания тогда в основном ограничивались французским, так что Франция была логичным выбором — там я мог выразить свои мысли. Я был очень любознателен и жаден до французской музыки конца XVII–XIX веков. Так что Франция действительно была очень логичным местом для меня.
— В вашем поколении эмиграция американцев в Европу была тенденцией?
— Нет, я думаю, это происходило только из-за войны. Я помню, как в 1970–1971 годах ходил в Парижскую консерваторию, где есть чудесный музей старинных инструментов. Там было около десяти американцев и канадцев, которые были каким-то образом вовлечены в антивоенное движение. Но, если говорить о современной культуре, мне кажется, что американцы разочаровались во Франции и французской культуре. Во Франции всегда присутствовали американские экспатрианты. Но вдохновляет ли нас сегодня французская культура так же, как в прошлые времена, на то, чтобы создать нечто прекрасное, как, например, она вдохновляла писателя Генри Джеймса или художника Джона Сингера Сарджента? Нет, я так не думаю. Является ли Франция важным местом с точки зрения сегодняшней культуры? Для меня — да, потому что я занимаюсь музыкой XVII–XVIII веков. Но, с точки зрения культурного влияния, не думаю, что Франция так уж сильна. Если говорить о визуальных искусствах, Нью-Йорк в последние 50–75 лет — гораздо более важный центр. Если говорить о литературе — да, во Франции очень хорошо с литературой, но, опять же, есть Южная Америка, Ближний Восток, Дальний Восток, Америка. Однако я считаю, что вношу вклад в нечто важное: мне кажется, я помог французам лучше узнать композиторов и музыку, о которой они во многом забыли, — музыку XVII и XVIII столетий. И это меня очень радует. И, конечно же, я очень активно учил французов. Кажется, что это нелепый обмен ролями, но так было.
— Вы испытываете патриотические чувства?
— Я не патриот. Я считаю, что Франция создала множество прекрасных вещей в тех сферах, которые я люблю, и благодаря этому я был бы счастлив стать французом. Однако, разумеется, есть и вещи, которые не вызывают во мне восторга. Более ли патриотичен я по отношению к Штатам? Нет. Мне кажется, любой человек, у которого есть голова на плечах, наблюдает и те явления, которые ему нравятся, и нечто менее приятное. Зачастую это связано с внешними факторами, которые мы не контролируем. Сейчас у нас президент, которого я считаю совершенно бездарным, потому что он ненавидит таких людей, как мы, как я. И внушает людям идею, что чем более они невежественны, тем больший политический вес они имеют. Не думаю, что это хорошая идея. Я понимаю, что вопрос не патриотичен, но: лучше ли мне живется во Франции? Я бы сказал, что крайне рад иметь два паспорта — американский и французский.
— Да, это неплохо. Героем одного из наших интервью был Филипп Херревеге. Он сказал, что дирижирование музыкой, например, Рихарда Штрауса — это счет на «раз-два-три-четыре», координирование большого оркестра, певцов и хора, а дирижирование кантатами Баха — это поиск денег на ближайший концерт. Вы согласны?
— Мне представляется очевидным, к сожалению, что Филипп Херревеге проводит много времени не с баховскими кантатами, а с огромным количеством музыки XIX и XX веков. Так что я не совсем понимаю, что он хотел сказать. Я не думаю, что функция дирижера состоит в том, чтобы играть роль полицейского для большого оркестра. Нужно владеть техникой — это да. Потому что такой оркестр сам по себе ничего не сыграет, в отличие от оркестра, который играет кантаты Баха.
— А насчет поиска денег для старинной музыки — это правда?
— Я никогда не думал об этом, если честно. Потому что деньги меня не интересуют. Но, может быть, он зарабатывает больше денег со Штраусом, просто махая палочкой?
— Насколько я знаю, вы говорили, что французское министерство культуры недостаточно хорошо финансирует ансамбли вроде вашего.
— Не уверен, что я говорил именно так. Могу сказать, что Франция тратит на культуру меньше денег, чем в предыдущие годы. Но если сравнить Францию с Италией или Испанией, Голландией или Англией, Франция очень щедра.
— А с Германией как?
— В Германии и во Франции есть свои особенности. Давайте не забывать, что Германия — протестантская страна. А это значит, что в каждой земле есть свой хор, свой органист. Они являются частью протестантской или католической религиозной систем и получают деньги от государства за свой труд. 20 лет назад у них также существовала поразительная система поддержки, которая была крайне эффективна и важна для старинной музыки. Однако я не считаю, что Германия так же щедра к людям вроде меня, как Франция. Я осознал, что у Франции есть одна черта, которая одновременно и очень хороша, и очень плоха: Франция верит в свою судьбу и в свою славу. И еще она верит в свое культурное превосходство. Французы — очень высокомерные люди в отношении своей культуры. И себя они считают просвещенной нацией, которой не являются — за исключением людей, управляющих страной, должностных лиц. На официальном уровне существует идеология, что Франция обладает великой культурой. И на нее нужно выделять деньги. Думаю, что со временем финансирование сократится. Но французы никогда не сделают того, что, например, сделали голландцы пару лет назад — просто уничтожили всю поддержку культуры в стране. Для французов это было бы непростительно. Или, например, Соединенные Штаты. Идея государственности в Штатах сфокусирована в правительстве в Вашингтоне. Сейчас, как вам известно, господин Трамп расформировал весь культурный аппарат Вашингтона. Например, Национальный фонд поддержки культуры и искусства уничтожен. Не самое лучшее начало. Почти все хорошее, что происходит в Штатах, делается благодаря поддержке частных лиц. Так что думаю, что французов, скорее, стоит похвалить.
— Правда ли, что вы почти перестали исполнять современную музыку?
— Мне сейчас 72, почти 73 года. Приехав в Европу, я играл много современной музыки, которая мне нравилась. А затем сказал себе: «Я создам новый ансамбль — Les Arts Florissant. Теперь я знаю, что действительно хочу делать в этой жизни». У меня нет стремления использовать мой барочно-классический репертуар как трамплин к чему-то другому. Восхищаюсь ли я людьми, которые играют всё? Которые говорят: «Так, а сейчас мы сыграем Вагнера на старинных инструментах»? Если честно, каждый дирижер должен владеть мануальной техникой, должен быть достаточно хорошо подготовлен, чтобы справиться со Штраусом или Вагнером, или Брамсом. Мне нравится идея погружения в тонкости звука, — конечно, интересно послушать Брамса с жильными струнами или с медными духовыми той эпохи. Нравится ли мне слушать Вагнера на инструментах его времени? Да, нравится. Но я часто замечаю, что люди, которые такое дирижируют, лишены настоящего таланта. Потому что это очень самонадеянно — начать с музыки конца XVII века и высокомерно заявлять, что ты можешь сыграть абсолютно любую музыку с равным совершенством. Мне не нравится эта черта в современных композиторах и дирижерах. Мне не нравилось, когда Караян на Рождество вытаскивал это ужасное чембало и играл «Рождественскую ораторию» с Берлинским филармоническим и в то же время дирижировал Штрауса или кого-то еще. Тогда почему мне должны нравиться барочные дирижеры, которые теперь решили, что могут делать всё? Это ведь то же самое. Значит ли это, что я не люблю Шуберта, Шумана, Брамса, Вольфа, Дебюсси, Форе или Равеля? Ни в коем случае. Просто — как я уже рассказывал одному вашему коллеге-журналисту — мне предложили взяться за «Тристана» несколько лет назад. Я ответил: «Хорошо. Просто дайте мне 25 лет». И я действительно так считаю. Можно ли это расценивать как мой страх, страх не справиться с задачей? Думаю, да. Но на самом деле в интеллектуальном смысле это, скорее, связано с тем, как меня учили и какой музыкой я занимался во время учебы. Я полагаю, что могу очень хорошо играть музыку, написанную в течение двух столетий — от Монтеверди до времени смерти Гайдна. Это уже очень много. Думаю, что я знаю пределы своих возможностей. И для меня это важно — в плане осознания себя.
— Я слышал, что такие дирижеры, как Даниэль Баренбойм и Пьер Булез, посмеивались над вами и вашими музыкантами. Существует ли противостояние между аутентичным и современным исполнительством?
— Ну, разумеется, Баренбойм — выдающийся музыкант. Но когда он называет нас «вегетарианцами», он просто вынужден так себя вести, ведь сам он всю жизнь занимался современным оркестром, в котором играют на современных инструментах, и, главное, в силу этого — занимался современной интерпретацией. Да, он не очень добр к таким людям, как мы. С Пьером Булезом мы стали хорошими друзьями. Что не мешало ему публиковать весьма злобные комментарии в прессе. Однажды я ему сказал: «Пьер, ты как собака, которая лицом к лицу ведет себя прекрасно, но стоит отвернуться, как она кусает тебя за лодыжку». И добавил: «Я никогда не смогу претендовать даже на толику твоего блеска. Но, мне кажется, так же ярко блестят твои лакуны, те вещи, которых ты не знаешь. Ты блестишь, как скоростной поезд TGV, который мчится вперед и не замечает, не может замечать, что творится по сторонам. Ты ничего не знаешь о том, чем я занимаюсь и к чему стремлюсь. Ничего». Когда-то давно у нас была серия потрясающих бесед на радио. В одной из них я рассказал, что у нас есть общая подруга — Филлис Брин-Юлсон из Америки. У Филлис был абсолютный слух. Например, Пьер мог попросить: «Филлис, спой мне верхний ре-бемоль», — и она пела совершенно точно. Тогда я сказал: «Да, это навык, которым можно гордиться, но он работает для периода музыки длиной в 50–75 лет. Что ты будешь делать с Монтеверди, у которого ля равно 460 Гц? А с Бахом или с французской музыкой XVII века, в которой не существует такой вещи, как ля 440 Гц, и, поскольку ее нет, в абсолютном слухе нет никакого смысла?» Он не смог ответить на этот вопрос. Или не хотел. Так что у нас, конечно, есть недоброжелатели. Волнует ли это меня? Ни капли. Потому что я знаю: то, что делаю я, они делать не могут. И это самое важное. Поэтому я горжусь навыками, которые есть у меня и моих музыкантов. Вы не можете попросить Пьера или Даниэля продирижировать или даже подумать о дирижировании оперой Рамо. Или произведением Монтеверди. Нет. Пьер вообще-то пытался сделать «Ипполита и Арисию» для Французского радио, и это была катастрофа. Полная катастрофа.
— Сформулируйте, пожалуйста, что такого есть в музыке XVII и XVIII веков, чего не найти в музыке более поздней?
— Ну, во‑первых, это инструменты. Конечно, никаких клавесинов в музыке XIX — начала XX века вы не услышите, как и тех разновидностей струнных и деревянных духовых, которые используем мы. Является ли это важным аспектом? То, что мой гобой по звуку гораздо ближе к тому, который композиторы использовали в 1720-е, 1730-е или 1740-е? Конечно. Но еще бо́льшая разница — в мышлении. Приведу пример. Давным-давно, когда я преподавал, я взял «Молоток без мастера» Булеза. Одну страницу. И мы с моими студентами стали считать, сколько раз указаны темп, динамика, фразировка, инструмент и так далее. Там было 72 указания на одной странице. Это много. Такие музыканты, как Пьер, или такие исполнители, как Баренбойм, пользуются всем этим. Есть ли огромная разница между Баренбоймом, играющим Бетховена, и, скажем, Шнабелем или Бренделем? Какая-то есть, но не такая уж большая. Потому что темп уже задан. Взять, например, Hammerklavier. Вы не скажете про исполнение Hammerklavier’a: «темп чудовищно медленный» или «чудовищно быстрый». Потому что мы знаем, чего хотел сам Бетховен. Мы знаем, как строить фразировку. Вы не станете играть громко там, где указано «тихо». Затем, показав эту страницу из Булеза, я открыл страницу Люлли, печатного издания Кристофа Баллара 1697 года. Там нет ничего. Только строчка цифрованного баса и строчка с мелодией. Мы не знаем, какие инструменты играют, мы не знаем динамику, мы не знаем ничего. Мы должны всё решить сами.
— Вы верите в единственно верную интерпретацию этой страницы?
— Конечно, нет! Я говорю о том, что эта страница открыта для огромного количества интерпретаций. Огромного. И именно этого композиторы и хотели в XVII и XVIII веках. Партитуру завершал исполнитель. Это очень важно осознавать. Отсюда следует — и это прекрасно, — что, если я играю сочинение Марка-Антуана Шарпантье, которое играли Жорди Саваль, Рене Якобс, Конрад Юнхель и кто-то из англичан, — это значит, что у нас порой будут радикальные различия в оркестровке, да вообще в чем угодно. Даже в произношении латинского текста, а может быть, и французского. Это потрясающе, и мне это очень нравится.
— Хочу спросить вас о России. Вы были у нас в стране уже в 1970-е годы. Что вы помните о Москве с тех времен?
— Многое. Как француз я сталкивался с трудностями. В гостинице «Россия» была женщина, которая смотрела за мной и записывала, в какое время я пришел. Помню и прекрасные, и грустные вещи. Прекрасно было то, как я, входя в Зал Чайковского, видел публику, жадную до музыки. Думаю, она до сих пор такова. Я считаю, что русские — очень музыкальная нация. Возможно, это исходит из вашего языка, который так музыкален. У меня действительно были славные моменты в Советской России. И не такие славные. Я не понимал, что эти приглашения от людей из Консерватории — от Ивана Монигетти или… Как же звали этого чудесного пианиста?..
— Алексей Любимов?
— Любимов. О, потрясающие люди! Мы часто ужинали с ними, с их женами и детьми. И я не понимал, что они диссиденты. Одну из поездок организовывало французское правительство, и Госконцерт прознал, что мы общаемся не с теми людьми, — понимаете? Французы ничего не сделали, чтобы нас выручить. Я отменил концерт для французского посла, потому что он тоже не был готов нам помочь в этой ситуации. Это было не очень приятно. Но думаю, что в предельно контролировавшем все государстве жила идея о том, что культура может многое сделать для него. И она прекрасно справлялась. Расскажу еще одну удивительную историю: в 1980-е годы, задолго до перестройки, меня пригласили в советское посольство в Париже, которое находится на бульваре Ланн. Это величественное здание, очень советское. Внушительное, очень внушительное. Я стоял в очереди, где посол с женой принимали посетителей. Там было много французов. А передо мной стояли несколько англичан и американцев. Я помню одну англичанку, жену сотрудника английского посольства, с которым я не был знаком. Жена русского посла поцеловала ее, пожала ей руку и на безупречном, что называется, оксфордском английском спросила, как ее дела, как поживают ее дети и так далее. А прямо передо мной был американец — не знаю откуда, но у него был такой действительно сильный американский акцент. И вдруг, в очередной раз поражая меня, жена русского посла переключается с британского английского на американский. Я подумал: «Господи, она же просто гений!» Гений. Да. Ну, можно и про еду рассказать, и много чего еще…
— Два последних вопроса. Опишите, пожалуйста, современную Россию в трех словах. Просто первые три слова, которые придут вам в голову.
— Боже мой. Ну, самое главное — это Путин. Очень грустно наблюдать, как портятся отношения между нациями и государствами. То, что происходит в моей бывшей стране, очень печально. Любопытно, что я придаю большое значение нынешним отношениям России с остальным миром. Это важно, потому что у вас огромная страна и очень сильный президент. Его очень много в новостях, прямо в ежедневном режиме. Другими словами, присутствие России очень сильно в медийном смысле. Что еще я думаю об этом? А какой второй вопрос?
— То есть только одно слово про Россию? Я просил три.
— Она гигантская. Забавно, что, когда я был очень-очень молод и брал уроки русского из-за холодной войны, там все время было что-то вроде zhizn u babushka или ya rabotayu na fabrike, такая ерунда. Интересно, что там постоянно встречалось словосочетание «Россия-мать». Понимаете, английский учебник русского, но — «Россия-мать». Очень приятно произносить. Я это даже прочувствовал и чувствую до сих пор — сегодня утром я был в церкви в одном из монастырей. Очень впечатляет.
— И последнее. Правда ли, что в прошлом году в Мадриде вы прервали концерт, когда зазвонил мобильный телефон?
— Да.
— Вы знаете, что в России ситуация с телефонами на концертах очень плохая?
— Ну, надо воспитывать людей. Проблема была в том, что это произошло дважды с одним и тем же человеком. Это оскорбительно. И я не единственный, кто так делает. Саймон Рэттл, мой дорогой коллега, останавливает концерты в Берлине. Марта Аргерих однажды просто встала и ушла, потому что не могла этого вынести. Часто это настолько ужасно, будто ты касаешься оголенного провода под напряжением. Самое неприятное в Мадриде было то, что я исполнял «Мессию» Генделя и мой студент Карло Вистоли пел «He was despised». Тогда это и произошло! Продолжать было просто невозможно. Мне нечего больше добавить. Горжусь ли я этим? Нет. Я просто считаю, что повел себя совершенно нормально. И должен сказать, что большинство слушателей сочли так же. Что приятно.
— Надеюсь, сегодня все будет в порядке.
— Повторюсь, у меня не осталось ничего, кроме замечательных воспоминаний. Я уже много лет рассказываю о них. Знаете, давным-давно на одном из первых концертов в Москве ко мне подошла женщина и сказала: «Я хочу представить вам после концерта двух девушек, которые потратили 48 долларов, чтобы приехать из Сибири и услышать вас». Это восхищает, если задуматься. Или то, как после концерта духовной музыки здесь, в Зале Чайковского, люди подходили всё ближе и ближе к краю сцены. Там было человек 50, и подошли они затем, чтобы к нам прикоснуться. Это красиво.




Комментировать